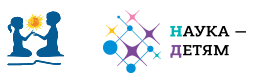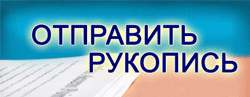Роль соматического мозаицизма в развитии опухолей у детей
- Авторы: Саломатина А.С.1, Друй А.Е.1
-
Учреждения:
- ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, Москва
- Раздел: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
- Статья получена: 06.08.2024
- Статья одобрена: 15.09.2025
- Статья опубликована: 15.09.2025
- URL: https://hemoncim.com/jour/article/view/881
- DOI: https://doi.org/10.24287/j.881
- ID: 881
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Соматический мозаицизм – явление, возникающее вследствие появления мутации в соматической клетке на одном из этапов онтогенеза. Мозаичная мутация не присутствует во всех клетках, но находится в неизмененных клетках различных тканей организма и может определять развитие опухолей соответствующих локализаций. Явление соматического мозаицизма позволяет объяснить часть неразрешенных спорадических случаев развития новообразований у детей. Принимая во внимание отсутствие мутации в каждой клетке организма, диагностика мозаичных синдромов может оказаться затруднительной, однако имеет важное клиническое значение. На основании типа опухоли пациента, его фенотипических особенностей важно определить наиболее предпочтительный метод молекулярно-генетической диагностики, который с большей вероятностью позволит выявить мозаичную мутацию и помочь объяснить этиологию развития новообразования. Однако, не всегда мутации, развившиеся в ходе соматического мозаицизма, удается диагностировать при помощи одного молекулярного исследования, в ряде случаев требуются дополнительные методы. Отрицательный результат не означает отсутствие мозаичной мутации у пациента, так как, возможно, образец не содержал клеток с генетическим вариантом, либо используемый метод исследования не подходит. Выявление патогенных мутаций при некоторых мозаичных синдромах будет способствовать модификации специфического лечения, в ряде случаев позволит инициировать молекулярно-направленную терапию, а также обосновать необходимость соблюдения протоколов наблюдения.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Мозаицизм – явление, предполагающее присутствие генетически различных популяций клеток, произошедших из одной зиготы, которое может существовать как в соматических, так и в половых клетках [1]. Если мутация возникла на стадии дифференцировки половой клетки, то она будет присутствовать не в одной гамете, а в определенной их части. Такое явление называется гонадным мозаицизмом[2]. Мутации, возникающие в соматической клетке на одном из этапов онтогенеза, предполагают развитие соматического мозаицизма. В редких случаях генетические варианты присутствуют одновременно и в некоторых половых, и в ряде соматических клеток, что приводит к гоносомному мозаицизму.
Мозаичные формы заболеваний являются результатом постзиготических мутаций на одном из этапов эмбриогенеза. Область поражения и количество затронутых клеток коррелирует со временем и местом возникновения патогенного варианта, а также с пролиферативным преимуществом мутировавших клеток. Существует классификация мутаций эмбриональной мозаики (MEM), предполагающая деление постзиготических вариантов на ранние (ЕЕММ), средние (МЕММ) и поздние (LEMM). Согласно данным проведенных исследований, мутации, происходящие на этапе ранней эмбриональной мозаики (ЕЕММ) – первые несколько клеточных делений зиготы до имплантации эмбриона, имели более высокую частоту альтернативного аллеля (Variant allele frequency – VAF), чем эмбриональные мозаичные мутации среднего уровня (МЕММ), приобретенные во время гаструляции или нейруляции [1].
Генетическая основа предрасположенности к развитию онкологических заболеваний в большинстве случаев соответствует классической «двухударной» («two-hit») модели онкогенеза, разработанной Альфредом Кнадсоном в 1971 году на примере развития наследственной и спорадической форм ретинобластомы. В своем исследовании Кнадсон пришел к выводу, что для развития опухоли необходима инактивация обоих аллелей гена-онкосупрессора RB1 [2]. В случае наличия наследственной предрасположенности, первым событием является герминальная мутация, которая передается от родителя или возникает de novo, ее наличие определяет раннюю реализацию фенотипа (возникновение опухоли) при инактивации второго аллеля в результате соматической мутации. Модель канцерогенеза Кнадсона не может объяснить генетическую этиологию всех синдромов предрасположенности к онкологическим заболеваниям (в первую очередь, в основе патогенеза которых лежат патогенные варианты в транскрипционных факторах или мутации типа gain-of-function), тем не менее, она является основой понимания патогенеза опухолей и повышенного риска их развития. В отличие от «классической» герминальной, мозаичная мутация не присутствует во всех клетках, но находится в неизмененных клетках различных тканей организма и может определять развитие опухолей соответствующих локализаций.
Эмбриональные мозаичные мутации могут объяснить часть неразрешенных случаев спорадических заболеваний. Так, в исследовании Chen Z. et al описаны случаи выявления вариантов с низким уровнем мозаицизма в гене RB1 при анализе ДНК, выделенной из лейкоцитов периферической крови, у пациентов со спорадическими формами билатеральной и унилатеральной ретинобластомы [3]. Авторы отмечают, что детекция мозаичных мутаций проводилась при помощи метода высокопроизводительного секвенирования (NGS), так как ранее использованный метод секвенирования по Сенгеру не позволил обнаружить в конституциональном материале варианты, выявленные при исследовании ткани опухоли, в силу значительно меньшей аналитической чувствительности метода.
Диагностика мозаичных синдромов имеет важное клиническое значение. В ряде случаев выявление патогенных мозаичных мутаций позволяет не только объяснить этиологию развития новообразования, но и способствует модификации специфического лечения, в том числе, позволяет инициировать молекулярно-направленную терапию в ряде случаев. Кроме того, как уже описано ранее, мозаичные синдромы повышают риск развития различных злокачественных и доброкачественных опухолей, что определяет необходимость разработки и последующего соблюдения протоколов наблюдения для пациентов [4].
В большинстве случаев диагностика соматического мозаицизма представляет собой сложную задачу. Вследствие широкой изменчивости и сглаженности клинических проявлений фенотип не всегда может быть распознан, а для выявления низкого уровня мозаицизма необходимо использование высокочувствительных методов секвенирования. Методы высокопроизводительного секвенирования с высокой глубиной покрытия являются наиболее оптимальными для диагностики СМ, так как позволяют проводить количественную оценку и обнаруживать даже низкий уровень мозаицизма. Кроме того, благодаря NGS, возможно выявление более широкого спектра мутаций в конкретном гене, а также обнаружение новых мутаций и генов, ранее не ассоциированных с заболеваниями. Однако, исследование Salem B. демонстрирует, что заболевания, связанные с вариацией числа копий генов (Copy number variation, CNV), также могут быть мозаичными и требуют применения дополнительных методов диагностики, таких как метод мультиплексной амплификации лигированных зондов (MLPA), метод сравнительной геномной гибридизации на микроматрицах (array CGH) [5]. Учитывая ограниченную аналитическую чувствительность методов MLPA и arrayCGH, методом выбора для детекции мозаичных форм CNV может стать цифровая ПЦР. Принимая во внимание, что в ряде случаев СМ имеет низкий уровень, особенно внимательно стоит подойти к выбору исследуемого материала. Для диагностики мозаицизма предпочтительнее проводить анализ более, чем одного вида биоматериала, в первую очередь, исследуя, пораженную ткань, расположенную наиболее близко к пораженной области или имеющую общий гистогенез с пораженной тканью [1].
Цель обзора — представить комплексный обзор научной литературы по теме соматического мозаицизма, проанализировать его роль в патогенезе развития новообразований у детей.
МЕТОДОЛОГИЯ ПОИСКА ИСТОЧНИКОВ
Проведён анализ актуальной научной литературы по теме соматического мозаицизма с использованием международных и отечественных баз данных (PubMed, Scopus, Google Scholar, eLibrary). Ключевые запросы на английском языке: somatic mosaicism cancer, cancer predisposition; на русском языке – соматический мозаицизм, синдромы предрасположенности к опухолям. Анализ научной литературы проводился за период январь 2004 – июнь 2024 гг., глубина поиска 20 лет. По ключевому запросу «somatic mosaicism cancer» за указанный период в базе NCBI обнаружено 90 статей, после отсева дубликатов (36) и неполнотекстовых статей (32), в обзор было включено 22 научные работы.
Мозаичные мутации при РАСопатиях
РАСопатии представляют собой группу наследственных синдромов, возникающих из-за мутаций в генах, которые кодируют элементы и регуляторы сигнального пути RAS-MAPK — ключевого каскада, участвующего в контроле клеточной пролиферации, дифференцировки и апоптоза [6]. Этот сигнальный путь играет важную роль в нормальном формировании клеток и тканей как на этапе эмбрионального, так и постнатального развития.
К РАСопатиям относят такие синдромы, как синдром Нунан, нейрофиброматоз 1 типа, синдром Нунан с множественными лентиго (LEOPARD-синдром), кранио-фацио-кожный синдром, синдром капиллярных и артериовенозных мальформаций, синдром Костелло и синдром Легиуса (табл. 1).
Нарушения в сигнальной цепочке RAS-MAPK приводят к формированию характерной клинической картины, включающей множественные признаки нарушенного эмбрионального развития, аномалии костно-мышечной системы, задержку нейрокогнитивного развития, врожденные пороки сердца, патологии органов зрения, кожные изменения и повышенную склонность к опухолевым процессам.
Наиболее распространенный путь наследования данной группы заболеваний – аутосомно-доминантный [7]. В литературе описано множество клинических случаев развития опухолей, в первую очередь, эмбриональных (нейробластома, рабдомиосаркома), у пациентов с синдромом Нунан, нейрофиброматозом 1 типа, синдромом Костелло. Также при вышеуказанных синдромах встречаются опухоли головного мозга, острые лейкозы [8, 9]. Принимая во внимание наличие ярких фенотипических особенностей при РАСопатиях, выявляемость таких пациентов и своевременная молекулярно-генетическая диагностика в настоящее время незатруднительна. Однако в ряде случаев, несмотря на наличие некоторых клинических признаков, подозрительных в отношении синдромов предрасположенности к опухолям (СПО), при исследовании ДНК, выделенной из периферической крови, не находится мутаций, ассоциированных с фенотипическими проявлениями. Отсутствие «классической» герминальной мутации может предполагать наличие мозаичной мутации у пациента. Например, в работе Moog U. et al. описан редкий случай РАСопатии, ассоциированной с мозаичной мутацией в гене KRAS, у пациента с сегментарной гиперпигментацией и невусом сальных желез левой стороны туловища, головы. Патогенный вариант в гене KRAS был обнаружен при исследовании ДНК, выделенной из фибробластов кожи головы, затрагивающей область невуса, и отсутствовал в периферической крови пациента [10].
В научной литературе описаны случаи редкого нейрокожного синдрома, который проявляется сочетанием крупного линейного сального невуса (невус Ядассона), эпилепсией, а также задержкой речевого и психического развития. Из-за характерных клинических признаков данное заболевание получило название синдрома линейного невуса сальных желез (СЛНСЖ), также известного как синдром Шиммельпеннинга–Фейерштейна–Мимса.
СЛНСЖ обусловлен генетическим мозаицизмом и связан с мозаичными мутациями в генах KRAS и HRAS, возникающими на различных этапах эмбрионального развития [11].
Помимо множественных аномалий развития пациенты с синдромом Шиммельпеннинга–Фейерштейна–Мимса имеют повышенный риск развития злокачественных новообразований, в первую очередь, эмбриональных опухолей. Генетическое подтверждение мозаичной РАСопатии предполагает необходимость динамического наблюдения в рамках разработанных протоколов, учитывая повышенный риск развития других злокачественных или доброкачественных образований, а также неопухолевых проявлений [5, 7].
Среди пациентов с нейрофиброматозом 1 типа (НФ1) также нередко встречаются случаи мозаичной формы синдрома [12, 13]. Такие пациенты имеют некоторые фенотипические проявления НФ1, однако в большинстве случае они не соответствуют классическим критериям, позволяющим установить диагноз нейрофиброматоза 1 типа. Пятна «кофе с молоком», кожные или подкожные нейрофибромы могут располагаться сегментарно или унилатерально. Некоторые пациенты с мозаичной формой НФ1 имеют лишь единичные гиперпигментированные кожные проявления. Однако, несмотря на отсутствие типичных фенотипических проявлений, существует риск развития плексиформной нейрофибромы (ПН) и других новообразований, встречающихся при «классической» форме нейрофиброматоза 1 типа. В исследовании Ejerskov C. et al. описано, что у пациентов с мозаичной мутацией в гене NF1 в 30% случаев отмечалось развитие плексиформной нейрофибромы [13]. Молекулярно-направленная терапия МЕК-ингибитором селуметиниб, который зарегистрирован для симптоматической неоперабельной ПН на фоне НФ1, у пациентов с мозаичной формой заболевания также патогенетически обоснована.
Таблица 1. Гены, ассоциированные с РАСопатиями
Table 1. Genes associated with RASopathies
Синдром | OMIM# | Гены | Ссылки |
Нейрофиброматоз 1 типа | 162200 | NF1 | [14] |
Синдром Нунан | 163950 | PTPN11, SOS1, RAF1, KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, SHOC2, CBL, LZTR1, RIT1, SOS2 | [14] |
Синдром Нунан с множественными лентиго (LEOPARD) | 151100 | PTPN11, RAF1, BRAF | [14] |
Кардио-фацио-кожный синдром | 115150 | BRAF, KRAS, MAP2K1, MAP2K2 | [14] |
Cиндром капиллярной и артериовенозной мальформации | 608354 | RASA1 | [14] |
Синдром Костелло | 218040 | HRAS | [14] |
Синдром Легиуса | 611431 | SPRED1 | [14] |
Спектр синдромов избыточного роста, ассоциированных с мутацией в гене PIK3CA (PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum, PROS)
PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum (PROS) (спектр синдромов избыточного роста, ассоциированных с мутацией в гене PIK3CA) – термин, объединяющий ряд орфанных заболеваний, характеризующийся различными пороками развития и избыточным разрастанием тканей. В патогенезе развития данной группы синдромов ведущая роль принадлежит ранней постзиготической мутации в гене PIK3CA, вследствие чего запускается патологическая активация сигнального каскада PI3K/AKT/mTOR, что обуславливает развитие новообразований, сосудистых аномалий и других фенотипических особенностей у этих пациентов. Спектр клинических проявлений PROS достаточно широкий, однако среди них наиболее важными представляются избыточное разрастание жировой, мышечной, нервной или костной ткани, сосудистые мальформации, кожные проявления, включающие эпидермальные невусы, себорейный кератоз [15].
В редких случаях описана ассоциация PROS с развитием злокачественных новообразований. В работе Gripp KW et. al приводится несколько эпизодов развития нефробластомы в первые годы жизни у детей с врожденной гемигипертрофией [16]. Принимая во внимание наличие фенотипических особенностей, всем пациентам проводилось молекулярно-генетическое обследование методом NGS с использованием таргетной панели, включающей гены, ассоциированные с избыточным разрастанием тканей. При исследовании ДНК, выделенной из образца замороженной опухоли, а также из областей тела с избыточным разрастанием тканей, во всех случаях выявлены различные патогенные мутации в гене PIK3CA. При исследовании периферической крови ни в одном случае не было обнаружено вариантов, выявленных в образцах ткани, что подтверждает мозаичный характер мутаций. На момент проведения исследования все пациенты оставались живы и находились в ремиссии по заболеванию. По данным литературы, случаи развития злокачественной опухоли чаще наблюдались при обнаружении мутации в кодоне 1047 (p.His1047Leu/Arg) [16, 17]. В целом, риск развития онкологических заболеваний при PROS невысок, однако учитывая описанные случаи нефробластомы у пациентов с постзиготической мутацией в гене PIK3CA, рассматривается целесообразность проведения скринингового ультразвукового исследования почек до возраста 8 лет [17, 18]. Кроме того, необходимо проведение дифференциальной диагностики с другими синдромами, ассоциированными с нефробластомой и парциальной гипертрофией тканей (синдром Беквита-Видемана, синдром Симпсона-Голаби-Бемель, синдром Перлмана и т.д.).
Наиболее серьезным клиническим проявлением спектра синдромов избыточного роста являются распространенные сегментарные очаги разрастания жировой, мышечной, нервной, костной ткани, а также различные сосудистые мальформации, приводящие к ухудшению качества жизни пациентов за счет болевого синдрома, ограничения функции, выраженной деформации тела. В течение длительного времени единственной куративной опцией для таких проявлений PROS оставалось хирургическое лечение, однако в большинстве случаев оперативное вмешательство не могло быть радикальным, что впоследствии приводило к продолженному росту новообразования [15, 18].
В настоящее время для данных пациентов рассматриваются варианты системной терапии, направленной на различные компоненты сигнального пути PI3K. К ним относятся ингибиторы mTOR, AKT и PI3K. Использование системной терапии mTOR-ингибитором (сиролимус) у пациентов с клиническими проявлениями PROS описано в исследовании V.E. Parker et al [19]. В работу включено 39 пациентов, которым проводилась терапия сиролимусом в течение 26 недель с целевым показателем концентрации препарата в плазме крови 2–6 нг/мл. На фоне лечения наблюдалось сокращение объема пораженных тканей, средний процентный показатель - 7,2 %. Однако у 28 из 39 (72%) участников отмечено ≥1 нежелательного явления (НЯ), связанное с сиролимусом, 37% из них имели 3 или 4 степень тяжести НЯ, и 7/39 (18%) участников были впоследствии исключены из участия. Наиболее распространенным классом НЯ было развитие инфекционных эпизодов (16/39 пациентов, 41 %), за которой следовали заболевания крови или лимфатической системы (8/39, 21 %). Таким образом, данное исследование показало, что низкие дозы сиролимуса могут незначительно уменьшить очаги избыточного разрастания тканей, однако частота побочных эффектов высока, что требует необходимости определения соотношения пользы и риска при применении препарата у пациентов.
В настоящее время наиболее перспективным представляется использование PI3K-ингибитора алпелисиба, который показал эффективность и хорошую переносимость у пациентов с PROS [15]. Принимая во внимание опыт использования алпелисиба в онкологической практике, Q. Venot et al. изучили его терапевтический потенциал при PROS [20]. Первоначально в исследование были включены 2 пациента с синдромом CLOVES, проведение терапии алпелисибом позволило добиться сокращения гипертрофированных участков тела и улучшения качества жизни больных при хорошей переносимости. Далее в исследование были включены еще 17 пациентов с PROS. У всех пациентов был зарегистрирован ответ на терапию, при этом среднее уменьшение размеров пораженной области составило 12,6 ± 3,8 % и 16,3 ± 3,9 % через 3 и 6 мес лечения соответственно. Побочные эффекты отмечены в 29,4 % случаев и включали афтозный стоматит, транзиторную гипергликемию. Таким образом, использование алпелесиба показало эффективность среди пациентов с PROS. Кроме того, отмечалась удовлетворительная переносимость терапии с минимальным количеством и спектром НЯ, которые не требовали отмены или редукции терапии.
Мозаичные формы синдрома Беквита-Видемана
Синдром Беквита – Видемана (СБВ, OMIM#130650) — редкое генетическое заболевание, характеризующееся наличием множественных пороков развития, а также повышенным риском злокачественных и доброкачественных новообразований в течение жизни. К наиболее распространенным признакам СБВ относят омфалоцеле, макроглоссию и макросомию. Кроме того, у таких пациентов нередко можно выявить неонатальную гипогликемию, гемигипертрофию и висцеромегалию [21].
Учитывая повышенный риск развития опухолей при СБВ, в первую очередь, эмбриональных (нефробластома, гепатобластома, нейробластома), рассматривается необходимость динамического наблюдения и выполнения контрольных обследований в регламентированные сроки с первого года жизни.
Развитие синдрома Беквита – Видемана связано с нарушением баланса экспрессии генов, участвующих в контроле клеточного цикла и процессов деления, роста (KCNQOT1, Н19, CDKN1C и IGF2). Экспрессия генов контролируется двумя отдельными центрами импринтинга (IC1 и IC2), которые располагаются в хромосомной области 11p15.5. В норме эти гены импринтированы и экспрессируются только с отцовского (IGF2 и KCNQOT1) или материнского аллеля (HI9 и CDKN1C) [22]. Потеря метилирования IC2 (IC2-LoM) приводит к снижению экспрессии гена ингибитора циклинзависимой киназы (CDKN1C), который в норме экспрессируется только с материнского аллеля, что составляет молекулярную основу приблизительно половины случаев СБВ. Гиперметилирование IC1 (IC1-GoM) вызывает биаллельную экспрессию гена инсулинового фактора роста 2 (IGF2) и снижение экспрессии гена онкосупрессора H19, что составляет от 5 до 10% случаев СБВ. Кроме того, примерно в 20% обнаруживается мозаичная отцовская однородительская дисомия (UPD), которая характеризуется измененной экспрессией обоих генов. В ряде случаев СБВ может быть обусловлен гетерозиготными патогенными вариантами в гене CDKN1C.
В случае классической формы СБВ пациенты обычно имеют характерные фенотипические особенности, указанные выше, что позволяет заподозрить наличие генетического синдрома и инициировать молекулярно-генетическую диагностику. Мозаичные формы СБВ предполагают более сглаженный фенотип, однако также повышают риск развития новообразований. Следовательно, несмотря на трудности диагностики мозаичных мутаций, крайне важно уметь их детектировать.
Наиболее подходящим методом молекулярно-генетической диагностики СБВ является метил-чувствительная MLPA (MS-MLPA), позволяющая выявлять нарушения метилирования импринтированных генов в хромосомной области 11p15.5. Baker и соавторы описывают случаи мозаичной формы синдрома Беквита-Видемана, диагностированные с помощью метода MS-MLPA (Methylation-specific MLPA). Согласно данным проведенного исследования, в периферической крови некоторых пациентов с фенотипом Беквита-Видемана было выявлено частичное гиперметилирование (3-20%) локусов IC1, IC2 на материнской хромосоме [23]. В тех случаях, когда СБВ связан с гетерозиготными мутациями в гене CDKN1C, предполагается использование методов высокопроизводительного секвенирования. Принимая во внимание распространенность мозаичных форм СБВ, для инициальной диагностики наиболее целесообразно использовать ДНК, выделенную из пораженной ткани, так как исследование периферической крови может не позволить обнаружить аберрацию. В работе Wang et.al представлен молекулярно-генетический алгоритм диагностики СБВ, позволяющий детектировать даже варианты с низким уровнем мозаицизма [21].
Наследование мозаичных мутаций
Ранее упоминалось, что мозаичные формы заболеваний являются результатом постзиготических мутаций на одном из этапов эмбриогенеза [1]. В случае, когда мутация возникла на стадии дифференцировки половой клетки, будет поражен определенный процент гамет, что приведет к явлению гонадного мозаицизма. Пациенты с гонадным мозаицизмом в большинстве случаев не имеют фенотипических особенностей и не страдают заболеванием, однако это явление может объяснить ряд мутаций, возникающих «de novo». Lázaro C. и соавторы описали семейный случай нейрофиброматоза 1 типа. В семье без наличия отягощенного анамнеза по НФ1 родились трое детей с клиническими признаками нейрофиброматоза 1 типа. При исследовании периферической крови патогенный вариант в гене NF1 был обнаружен у всех детей, однако не выявлен ни у одного из родителей. Учитывая наличие трех сиблингов с нейрофиброматозом 1 типа, был заподозрен гонадный мозаицизм, который был позднее подтвержден дополнительным методом исследования гонад родителей. Установлено, что обнаруженный у детей патогенный вариант в гене NF1 присутствовал в 10% половых клеток отца [12].
В редких случаях мутация присутствует одновременно и в некоторой доле половых, и соматических клеток, что приводит к гоносомному мозаицизму. Такие пациенты могут иметь фенотипические особенности, соответствующие синдрому, а также могут передать мозаичную мутацию потомству.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Явление соматического мозаицизма позволяет объяснить часть неразрешенных спорадических случаев развития новообразований у детей. Диагностика мозаичных синдромов имеет важное клиническое значение, однако в ряде случаев имеет определенные сложности. Принимая во внимание тип опухоли пациента, фенотипические особенности, важно определить наиболее предпочтительный метод молекулярно-генетической диагностики, который с большей вероятностью позволит выявить мозаичную мутацию и объяснить этиологию развития новообразования. Выявление патогенных мутаций при некоторых мозаичных синдромах будет способствовать модификации специфического лечения, в ряде случаев позволит инициировать молекулярно-направленную терапию, а также обосновать необходимость соблюдения протоколов наблюдения.
Об авторах
Анастасия Сергеевна Саломатина
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, Москва
Email: nastysha01@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3046-1495
врач-детский онколог консультативного отделения, лаборант-исследователь лаборатории молекулярной биологии
Россия, Москва, РоссияАлександр Евгеньевич Друй
ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, Москва
Автор, ответственный за переписку.
Email: dr-drui@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1308-8622
SPIN-код: 9072-9427
канд. мед. наук, заведующий лабораторией молекулярной онкологии
Россия, Москва, РоссияСписок литературы
- F. Muyas, L. Zapata, R. Guigó, S. Ossowski. The rate and spectrum of mosaic mutations during embryogenesis revealed by RNA sequencing of 49 tissues. Genome Med. 2020;12(1):49. doi: 10.1186/s13073-020-00746-1
- A.G. Knudson. Mutation and cancer: statistical study of retinoblastoma. Proc Natl Acad Sci USA. 1971;68(4):820-3. doi: 10.1073/pnas.68.4.820
- Z. Chen, K. Moran, J. Richards-Yutz, E. Toorens, D. Gerhart, T. Ganguly, C. Shields, A.Ganguly. Enhanced sensitivity for detection of low-level germline mosaic RB1 mutations in sporadic retinoblastoma cases using deep semiconductor sequencing. Hum Mutat. 2014;35(3):384- 91. doi: 10.1002/humu.22488
- IM Campbell, CA Shaw, P. Stankiewicz, JR Lupski. Somatic mosaicism: implications for disease and transmission genetics. Trends Genet. 2015;31(7):382-92. doi: 10.1016/j.tig.2015.03.013. Erratum in: Trends Genet. 2016;32(2):138. Erratum in: Trends Genet. 2016;32(2):138. doi: 10.1016/j.tig.2015.07.004
- B. Salem, S. Hofherr, J Turner, L. Doros, P. Smpokou. Childhood Rhabdomyosarcoma in Association With a RASopathy Clinical Phenotype and Mosaic Germline SOS1 Duplication. J Pediatr Hematol Oncol. 2016;38(8):e278-e282. doi: 10.1097/MPH.0000000000000566
- KA Rauen. The RASopathies. Annu Rev Genomics Hum Genet. 2013;14:355-69. doi: 10.1146/annurev-genom-091212-153523
- G. Ney, A. Gross, A. Livinski, CP Kratz, DR Stewart. Cancer incidence and surveillance strategies in individuals with RASopathies. Am J Med Genet C Semin Med Genet. 2022;190(4):530-540. doi: 10.1002/ajmg.c.32018
- MC Jongmans, I van der Burgt, PM Hoogerbrugge, K Noordam, HG Yntema, WM Nillesen, RP Kuiper, MJ Ligtenberg, AG van Kessel, JH van Krieken, LA Kiemeney, N Hoogerbrugge. Cancer risk in patients with Noonan syndrome carrying a PTPN11 mutation. Eur J Hum Genet. 2011;19(8):870-4. doi: 10.1038/ejhg.2011.37
- E.Astiazaran-Symonds, G.M.Ney, C.Higgs., L. Oba, R. Srivastava, Al. Livinski. et al. Cancer in Costello syndrome: a systematic review and meta-analysis. Br J Cancer. 2023;128:2089–2096. doi: 10.1038/s41416-023-02229-7
- U. Moog, U. Felbor, C. Has, B. Zirn. Disorders Caused by Genetic Mosaicism. Dtsch Arztebl Int. 2020;116(8):119-125. doi: 10.3238/arztebl.2020.0119
- А.С. Ольшанская, А.В. Дюжакова, Н.А. Шнайдер, Д.В. Дмитренко, Т.Н. Гузей. Синдром Шиммельпеннинга–Фейерштейна–Мимса. Русский журнал детской неврологии. 2017;12(4):5055. doi: 10.17650/2073-8803-2017-12-4-50-55
- C. Lázaro, A. Ravella, A. Gaona, V. Volpini, X. Estivill. Neurofibromatosis type 1 due to germ-line mosaicism in a clinically normal father. N Engl J Med. 1994;331(21):1403-7. doi: 10.1056/NEJM199411243312102
- C. Ejerskov, M.Raundahl, P.A. Gregersen, M.M. Handrup. Clinical features and disease severity in patients with mosaic neurofibromatosis type 1: a single-center study and literature review. Orphanet J Rare Dis 2021;16:180. doi: 10.1186/s13023-021-01796-3
- Клинический полиморфизм РАСопатий в условиях детского кардиологического отделения / О. В. Мельник, А. Я. Гудкова, Т. Л. Вершинина [и др.] // Consilium Medicum. – 2017. – Т. 19, № 12. – С. 100-104. – doi: 10.26442/2075-1753_19.12.100-104
- Г.Б. Сагоян, И.С. Клецкая, Е.Н. Имянитов, Ю.М. Мареева, Н.В. Жуков, Р.А. Хагуров, А.М. Сулейманова. Спектр синдромов избыточного роста, связанных с мутацией PIK3CA. Обзор литературы. Российский журнал детской гематологии и онкологии (РЖДГиО). 2022; 9(1):2944. doi: 10.21682/2311-1267-2022-9-1-29-44
- KW Gripp, L Baker, V Kandula, K Conard, M Scavina, JA Napoli, et al. Nephroblastomatosis or Wilms tumor in a fourth patient with a somatic PIK3CA mutation. Am J Med Genet A. 2016;170(10):2559-69. doi: 10.1002/ajmg.a.37758
- L. Faivre, JC Crépin, M. Réda, S. Nambot, V. Carmignac, C. Abadie, et al. Low risk of embryonic and other cancers in PIK3CA-related overgrowth spectrum: Impact on screening recommendations. Clin Genet. 2023 Nov;104(5):554-563. doi: 10.1111/cge.14410
- G. Mirzaa, JM Jr Graham, K. Keppler-Noreuil. PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum. 2013 Aug 15 [Updated 2023 Apr 6]. University of Washington, Seattle; 1993-2024.
- VER Parker, KM Keppler-Noreuil, L. Faivre, M. Luu, NL Oden, L. De Silva et al. Safety and efficacy of low-dose sirolimus in the PIK3CA-related overgrowth spectrum. Genet Med. 2019;21(5):1189-1198. doi: 10.1038/s41436-018-0297-9
- Q.Venot, T.Blanc, SH Rabia, L. Berteloot, S. Ladraa, JP Duong et al. Targeted therapy in patients with PIK3CA-related overgrowth syndrome. Nature. 2018;558(7711):540-546. doi: 10.1038/s41586-018-0217-9. Erratum in: Nature. 2019;568(7752):E6. doi: 10.1038/s41586-019-1109-3
- KH Wang, J Kupa, KA Duffy, JM Kalish. Diagnosis and Management of Beckwith-Wiedemann Syndrome. Front Pediatr. 2020;7:562. doi: 10.3389/fped.2019.00562
- J. Brzezinski, C. Shuman, S. Choufani, P. Ray, DJ Stavropoulos, R. Basran. Wilms tumour in Beckwith-Wiedemann Syndrome and loss of methylation at imprinting centre 2: revisiting tumour surveillance guidelines. Eur J Hum Genet. 2017;25(9):1031-1039. doi: 10.1038/ejhg.2017.102
- SW Baker, KA Duffy, J. Richards-Yutz, MA Deardorff, JM Kalish, A. Ganguly. Improved molecular detection of mosaicism in Beckwith-Wiedemann Syndrome. Journal of Medical Genetics 2021;58:178-184.
Дополнительные файлы