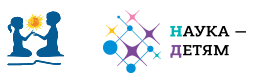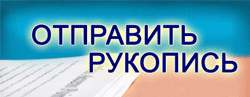Редкие синдромы врожденной костномозговой недостаточности с предрасположенностью к злокачественным заболеваниям.
- Авторы: Васильева М.С.1, Масчан А.А.2, Новичкова Г.А.2
-
Учреждения:
- Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева
- Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России
- Раздел: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
- Статья получена: 16.08.2025
- Статья одобрена: 05.09.2025
- Статья опубликована: 09.09.2025
- URL: https://hemoncim.com/jour/article/view/999
- DOI: https://doi.org/10.24287/j.999
- ID: 999
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Редкие синдромы врождённой костномозговой недостаточности с предрасположенностью к злокачественным новообразованиям представляют собой гетерогенную группу заболеваний, характеризующихся нарушениями гемопоэза, а также сопровождающиеся негематологическими проявлениями и высоким рискам развития злокачественных новообразований (ЗНО). Настоящий обзор посвящён анализу молекулярно-генетических и клинических особенностей синдромов, ассоциированных с мутациями генов GATA1, GATA2, TP53, DDX41, SRP72, MYSM1, SH2B3, CBLB и ERCC6L2. В статье рассматриваются молекулярные механизмы заболевания, клинико-гематологические проявления и современные подходы к диагностике и лечению данных нозологий.
Полный текст
Врождённые синдромы костномозговой недостаточности (ВСКМН) представляют собой гетерогенную группу наследственных заболеваний, характеризующихся нарушением гемопоэза и высоким риском развития злокачественных новообразований, обусловленных мутациями в ключевых генах-регуляторах клеточной пролиферации, дифференцировки и апоптоза [1, 2].
Клинико-гематологическая презентация ВСКМН может варьировать от умеренной цитопении до тяжёлой панцитопении с вовлечением экстрагемопоэтических органов и тканей. [2–4]. В ряде случаев ВСКМН могут протекать бессимптомно вплоть до манифестации миелодиспластических синдромов (МДС), острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) или солидных опухолей[5, 6].
Трудности диагностики ВСКМН обусловлены высокой клинико-фенотипической вариабельностью и, зачастую, отсутствием патогномоничных симптомов. Ранняя диагностика ВСКМН у детей позволяет оптимизировать тактику ведения пациентов, своевременно определить показания к проведению радикальной терапии и улучшить прогноз.
В последние годы благодаря активному внедрению высокопроизводительных методов молекулярной диагностики, таких как секвенирование нового поколения (Next-Generation Sequencing, NGS), значительно расширились представления о ВСКМН с предрасположенностью к развитию ЗНО, обусловленных мутациями генов GATA2, TP53, DDX41, что нашло свое отражение в международной классификации врожденных гематологических неоплазий 2022 года (Таблица 1) [7]. Использование молекулярно-генетических исследований в клинической практике способствует ежегодному увеличению числа диагностируемых случаев ВСКМН.
ВСКМН с мутацией гена GATA1
Ген GATA1 расположен на Х-хромосоме и кодирует транскрипционный фактор, относящийся к семейству GATA, ключевой регулятор дифференцировки клеток эритроидного и мегакариоцитарного рядов, а также базофилов и эозинофилов [8, 9]. Белок GATA1 связывается с GATA‑мотивом в промоторных участках целевых генов, регулируя их экспрессию. GATA1 необходим для нормальной продукции гемоглобина, тромбоцитов и функционирования эритроидных предшественников [8, 10, 11]. Мутации гена GATA1, как правило, затрагивают начальный кодон или первый домен «цинковую пальца» (zinc-finger), что приводит к образованию укороченного белка (GATA1s — short isoform), лишённого N‑концевого транскрипционного активационного домена [8].
Наследование имеет Х-сцепленный характер, поражая преимущественно мальчиков. У девочек возможна манифестация при избирательной инактивации здоровой Х-хромосомы [12].
GATA1-дефицит является причиной редкого варианта ВСКМН, сопровождающегося тромбоцитопенией, гипоплазией эритроидного ростка и нарушением агрегационной функции тромбоцитов [8, 11, 12]. Заболевание дебютирует в раннем детском возрасте и, в связи с быстрой прогрессией, высокой трансфузионной зависимостью и рисками трансформации в МДС/ОМЛ, требует проведения аллогенной ТГСК [12, 13].
У пациентов с синдромом Дауна (СД) мутации гена GATA1 ассоциированы с развитием транзиторного аномального гемопоэза (ТАМ) и ОМЛ [14]. Снижение экспрессии GATA1 на уровне гаплотипа у пациентов без трисомии 21 также ассоциировано с повышенным риском развития миелодиспластического синдрома (МДС) и острого миелоидного лейкоза [15].
ВСКМН с мутацией гена GATA2
Ген GATA2 расположен на длинном плече 3-й хромосомы (3q21.3) и кодирует транскрипционный фактор, играющий важную роль в поддержании пула гемопоэтических стволовых клеток и коммиттированных предшественников, а также в развитии лимфоцитарной и моноцитарной линий гемопоэза[16]. Мутации гена GATA2 приводят к нарушению баланса между самоподдержанием и дифференцировкой ГСК, снижению клеточной пролиферации и повышению склонности к апоптозу. В результате возникает панцитопения различной степени выраженности, иммунодефицит и склонность к клональной эволюции, что лежит в основе различных фенотипов наследственной или спорадической костномозговой недостаточности [3, 17].
Клиническая картина представлена четырьмя синдромами, объединенными под термином «GATA2-дефицит» [12, 17, 18]:
- синдром MonoMAC – врожденный дефект иммунитета (ВДИ) с дефицитом моноцитов, NK- и B-клеток, а также дендритных клеток. Данный синдром характеризуется тяжёлыми рецидивирующими инфекциями, включая атипичные микобактериозы (особенно вызванные Mycobacterium avium complex), инвазивные грибковые инфекции, а также инфекции, вызванные вирусами герпеса и папилломы человека. ВДИ часто манифестирует до 30 лет и прогрессирует со временем.
- синдром дефицита моноцитов, дендритных клеток, В- и NK-лимфоцитов – ВДИ с преимущественным поражением врождённого и адаптивного иммунитета. Часто сопровождается цитопенией одной или нескольких линий гемопоэза и склонностью к аутоиммунным заболеваниям;
- синдром Эмбергера - редкий фенотип, сочетающий врождённую лимфедему, преимущественно нижних конечностей, прогрессирующую нейросенсорную тугоухость, а также миелодисплазию и/или ОМЛ.
- семейный миелодиспластический синдром и острый миелоидный лейкоз.
Для пациентов с GATA2-дефицитом характерна высокая фенотипическая вариабельность, даже внутри одной семьи, что может быть связано с модифицирующим влиянием других генов, эпигенетическими факторами и воздействием внешней среды. Риск злокачественной трансформации при GATA2-ассоциированных синдромах особенно высок. У значительной доли пациентов развивается МДС с ранним дебютом, часто с избытком бластов, а в дальнейшем – ОМЛ. У большинства пациентов с GATA2-дефицитом уже на доклиническом этапе выявляется клональный гемопоэз, а у 70–80 % развивается МДС или ОМЛ. Злокачественная трансформация при этом часто предшествует или сопровождает иммунологические нарушения. Показано, что соматические мутации в других генах (например, ASXL1, RUNX1, SETBP1) могут дополнительно ускорять прогрессию заболевания, и их выявление имеет прогностическое значение [18, 19].
Мутации гена GATA2 наследуются по аутосомно-доминантному типу, однако у большинства пациентов мутации происходят на уровне зиготы de novo.
ВСКМН с мутацией гена TP53
Ген TP53 расположен на коротком плече 17-й хромосомы (17p13.1) и кодирует ядерный белок p53, являющийся ключевым транскрипционным фактором, регулирующим клеточный цикл, апоптоз, репарацию ДНК и ответ на клеточный стресс [20]. Белок р53 часто называют «стражем генома», поскольку его активация обеспечивает остановку пролиферации клеток с ДНК-повреждениями и предотвращает опухолевую трансформацию, тем самым защищая организм от развития опухолевых процессов [20, 21]. Герминальные мутации гена TP53 нарушают эту функцию и ассоциированы с синдромом Ли-Фраумени — наследственным синдромом с высоким риском раннего развития различных злокачественных новообразований [22].
Хотя классический фенотип синдрома Ли-Фраумени включает саркомы, рак молочной железы, опухоли мозга и надпочечников, в последние годы накоплены данные, свидетельствующие о связи герминальных мутаций в гене ТР 53 с развитием костномозговой недостаточности и повышенным риском развития острых лейкозов и МДС[21]. Особенно это характерно для носителей специфических мутаций с низким уровнем остаточной функции белка. Отмечается развитие цитопений вариабельной тяжести, повышенная чувствительность к химио- и радиотерапии, а также высокая частота хромосомных аномалий, включая комплексные кариотипы и делеции 17p, результатом чего является потеря второго, «здорового» аллеля [23, 24].
Наследование мутаций гена TP53 происходит по аутосомно-доминантному типу. Манифестация гематологических нарушений может происходить в детском и подростковом возрасте и предшествовать развитию злокачественных опухолей. У некоторых пациентов гематологическая патология может быть единственным проявлением, особенно в случае мутаций с частичным сохранением функции белка. Эти особенности подчёркивают необходимость раннего проведения молекулярно-генетических исследований у детей и подростков с необъяснимыми цитопениями, подозрением на МДС или острый лейкоз с комплексным кариотипом, а также в рамках скрининга при наличии отягощённого семейного анамнеза.
ВСКМН с мутацией гена DDX41
Ген DDX41 расположен на длинном плече 5-й хромосомы (5q35.3) и кодирует DEAD-box RNA-хеликазу, участвующую в процессинге РНК, сплайсинге, биогенезе рибосом и врождённом иммунном ответе. Хотя DDX41 долгое время рассматривался преимущественно как соматически мутирующий ген при миелоидных неоплазиях, в последние годы показано, что мутации DDX41 могут иметь герминальный характер и являться причиной наследственной предрасположенности к развитию МДС и ОМЛ, нередко на фоне предшествующей костномозговой недостаточности [25, 26].
Мутации гена DDX41 характеризуются высокой пенетрантностью, при герминальном варианте чаще представлены нонсенс мутации или мутациями со сдвигом рамки считывания, в случаях опухолевой трансформации обычно выявляется дополнительная соматическая мутация в другом аллеле [27].
Заболевание обычно дебютирует у взрослых, чаще после 40 лет, однако манифестация возможна и в детском возрасте [25, 27]. В ряде случаев заболевание может протекать бессимптомно, и у носителей могут наблюдаться признаки субклинической гипоплазии костного мозга, цитопения одной или нескольких линий.
DDX41-ассоциированные неоплазии характеризуются сравнительно благоприятным течением, нормо- или гипоклеточным костным мозгом, низкой частотой мутаций в других генах и хорошей чувствительностью к стандартной химиотерапии [24, 27]. Куративным методом является аллогенная ТГСК; при родственной трансплантации необходимо обследование потенциальных доноров для исключения у них мутации гена DDX41 [13, 25].
ВСКМН с мутацией гена SRP72
Ген SRP72 расположен на длинном плече 4 хромосомы (4q12) и кодирует субъединицу 72 сигнального распознающего белка (signal recognition particle, SRP), который участвует в ко-трансляционном транспортировании вновь синтезируемых белков к эндоплазматическому ретикулуму [28]. Дисфункция SRP-комплекса нарушает процессы трансмембранной и секреторной экспрессии, что особенно критично в клетках с высокой метаболической нагрузкой, таких как гемопоэтические клетки [28–30]. Мутации SRP72 ассоциированы с редкой формой аутосомно-доминантно наследуемой костномозговой недостаточности, сопровождающейся гипоплазией костного мозга, цитопениями периферической крови и предрасположенностью к развитию миелоидных злокачественных опухолей [31, 32].
Клинический спектр включает умеренно выраженную панцитопению или изолированную анемию, часто с гипоклеточным костным мозгом. В некоторых случаях наблюдаются экстрамедуллярные аномалии, такие как нарушение слуха и катаракта [31, 32].
Герминальные мутации SRP72 впервые были описаны у пациентов с идиопатической апластической анемией, впоследствии была доказана их связь с семейными случаями врождённой костномозговой недостаточности.
Предрасположенность к МДС и острым лейкозам при SRP72-ассоциированной патологии описана в нескольких семьях [32]. Точный молекулярный механизм злокачественной трансформации при генетических поломках остаётся предметом изучения, но предполагается, что нарушение транслокации и формирования третичной структуры белков индуцирует «стресс эндоплазматического ретикулума», апоптоз или компенсаторную пролиферацию стволовых клеток с последующим клональным отбором [28, 30, 32].
Тактика лечения определяется выраженностью цитопении. При легкой степени аплазии можно ограничиться симптоматической терапией; проведение иммуносупрессивнойая терапии в этом случае не требуется. При выраженной костномозговой недостаточности может необходимо проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. При выборе донора необходимо исключить носительство мутации, если речь идет о семейном доноре. Роль SRP72 в канцерогенезе усиливает необходимость ранней диагностики и динамического наблюдения для своевременного выявления признаков прогрессии заболевания.
ВСКМН с мутацией гена MYSM1
Ген MYSM1 (Myb-like, SWIRM, and MPN domains 1) расположен на коротком плече 1 хромосомы (1р22.1) и кодирует хроматин-модифицирующий белок с деубиквитинирующей активностью, участвующий в регуляции транскрипции и поддержании гомеостаза гемопоэтических стволовых клеток [33]. Он действует в составе комплекса, обеспечивающего эпигенетическое ремоделирование хроматина и контроль экспрессии генов, необходимых для дифференцировки и выживания клеток кроветворной системы. Нарушение функции MYSM1 приводит к истощению пула стволовых клеток, блокаде созревания клеток миелоидного и лимфоидного ряда, а также к развитию иммунодефицита [33, 34].
Герминальные мутации MYSM1 ассоциированы с редким аутосомно-рецессивным синдромом врождённой костномозговой недостаточности, проявляющимся панцитопенией, гипоплазией костного мозга, нарушениями гуморального и клеточного иммунитета, лимфопенией, гипогаммаглобулинемией и повышенной восприимчивостью к инфекциям. В некоторых случаях могут наблюдаться дисморфические черты, кожные аномалии и умеренная задержка роста. Отмечается фенотипическая гетерогенность: от бессимптомного носительства до тяжёлой панцитопении и рецидивирующих инфекций с раннего возраста [33, 34].
Особую настороженность вызывает выявленный в ряде случаев риск развития миелодиспластических изменений, что указывает на потенциальную канцерогенность дефицита MYSM1. Данные по предрасположенности к ОМЛ ограничены, но известна роль MYSM1 как гена-супрессора опухолей на экспериментальных моделях [35, 36]. Недостаточная экспрессия MYSM1 способствует активации компенсаторной пролиферации и повышает вероятность клональных эволюционных событий [35].
ВСКМН с мутацией гена SH2B3
Ген SH2B3 (Src Homology 2-B Adaptor Protein 3), также известный как LNK, расположен на длинном плече 12-й хромосомы (12q24.12) и кодирует адаптерный белок, участвующий в негативной регуляции сигнальных путей, активируемых рецепторами цитокинов, включая JAK/STAT, MPL, EPOR и c-KIT [37, 38]. SH2B3 выполняет критическую роль в ограничении пролиферации гемопоэтических стволовых клеток и коммитированных предшественников, обеспечивая баланс между самоподдержанием и дифференцировкой [37, 39]. Дисфункция этого гена способствует неконтролируемому клеточному росту и нарушению гомеостаза.
У взрослых пациентов с хроническими миелопролиферативными новообразованиями могут выявляться соматические мутации SH2B3, зачастую в сочетании с активирующими мутациями гена JAK2. Однако, герминальные мутации, ассоциированные с редкими синдромами костномозговой недостаточности, как правило, сопряжены с ранним дебютом, выраженной пролиферацией в сочетании с недостаточностью кроветворения [40–42]. У некоторых пациентов также встречаются аутоиммунные заболевания, что отражает участие SH2B3 в регуляции врождённого и адаптивного иммунного ответа. У ряда пациентов наблюдается клинический фенотип, сходный с миелопролиферативными заболеваниями (включая тромбоцитоз и эритроцитоз), в сочетании с элементами цитопении [39]. Эти состояния могут сопровождаться спленомегалией, диспластическими изменениями в костном мозге, а также склонностью к развитию миелодиспластического синдрома и острых лейкозов.
ВСКМН с мутацией гена CBLB
Ген CBLB (Casitas B-lineage lymphoma-B) расположен на длинном плече 3-й хромосомы (3q13.11) и кодирует E3-убиквитинлигазу, которая играет ключевую роль в отрицательной регуляции сигналов, опосредованных рецепторами T-клеток (TCR), а также в контроле активности других компонентов врождённого и адаптивного иммунитета [43]. CBLB функционирует как супрессор активации иммунных клеток, предотвращая чрезмерную пролиферацию и аутоиммунные реакции. Нарушение его функции ведёт к дисрегуляции иммунного ответа, хроническому воспалению, и, как показали недавние исследования, может ассоциироваться с костномозговой недостаточностью и опухолевой трансформацией.
Герминальные мутации CBLB описаны у пациентов с врождённой цитопенией, врожденными дефектами иммунитета, аутоиммунными нарушениями и повышенным риском развития злокачественных новообразований [43, 44]. Характерной особенностью CBLB-ассоциированной патологии является сочетание иммунной дисфункции (включая рецидивирующие инфекции, аутоиммунную тромбоцитопению, лимфопению) с признаками гипоплазии костного мозга. Предполагается, что дисфункция иммунного надзора, обусловленная дефицитом CBLB, способствует развитию злокачественной клональной пролиферации в гемопоэтической системе [1, 45].
Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют о возможной роли гена CBLB в развитиии синдрома предрасположенности к миелоидным новообразованиям. Описано, что инактивация этого гена у мышей приводят к развитию миелоидных опухолей, что подтверждает его роль как гена-супрессора [46, 47]. В клинической практике также отмечена ассоциация мутаций гена CBLB с повышенным риском развития МДС и острых лейкозов[45].
ВСКМН с мутацией гена ERCC6L2
Ген ERCC6L2 расположен на длинном плече 9-й хромосомы (9q 22.32), состоит из 19 экзонов и кодирует различные геликазо-подобные белки семейства Snf2, вовлеченные в репарацию ДНК и корректное формирование митотического веретена. Впервые пациенты с этим синдромом описаны в Финляндии, где в дальнейшем были обнаружены относительно крупные кластеры пациентов с этим синдромом [48].
Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Медиана возраста развития гематологических аномалий составляет 19 лет, и тяжесть цитопений варьирует исключительно широко. Морфологически у 70% пациентов выявляется гипоклеточность костного мозга без признаков дисплазии, у 30% - отмечается дисплазия в одной или нескольких линиях миелопоэза [49].
Вероятность трансформации в МДС/ОМЛ составляет около 30% и связана с инактивирующими мутациями гена ТР53, часто встречается моносомия 7. Медиана возраста пациентов на момент трансформации составляется 37 лет [50]. Интересно, что подавляющее большинство ОМЛ при данном синдроме классифицируется как М6 согласно FAB-классификации.
С учётом высокой вероятности злокачественного преобразования, аллогенная ТГСК рассматривается как единственный потенциально излечивающий метод лечения у пациентов с ERCC6L2-дефицитом. Однако эффективность трансплантации напрямую зависит от её своевременности. Согласно современным рекомендациям, оптимальным временем для выполнения ТГСК является стадия костномозговой недостаточности или гипоцеллюлярного МДС, до манифестации ОМЛ или появления тяжёлых инфекционных и органных осложнений. Проведение ТГСК на стадии уже развернутого лейкоза сопряжено с высокой частотой терапевтической резистентности и неблагоприятным исходом [51]. Практически все пациенты с трансформацией в ОМЛ умерли, несмотря на проведение алло-ТГСК.
Диагностика ВСКМН
Диагностика ВСКМН представляет собой сложную задачу, что обусловлено значительной генетической и фенотипической гетерогенностью данных заболеваний. Манифестация может наблюдаться как в раннем детстве, так и у взрослых пациентов, при этом отсутствие специфических признаков зачастую приводит к задержке в постановке диагноза [4]. Основанием для подозрения ВСКМН служат персистирующие или прогрессирующие формы цитопении неясного генеза, особенно в сочетании с врождёнными пороками развития, аномалиями кожных покровов и слизистых оболочек, задержкой физического развития, признаками иммунодефицита, интерстициальными заболеваниями лёгких, лимфедемой, а также семейным анамнезом гематологических заболеваний или злокачественных опухолей [4, 52]. Одним из ключевых признаков, указывающих на наследственный характер заболевания, может быть наличие проявлений клональной эволюции в костном мозге. [53, 53, 54]
Верификация диагноза требует применения современных методов молекулярной генетики. Наиболее широко используются таргетные NGS-панели, включающие гены, ассоциированные с наследственными синдромами костномозговой недостаточности. При отрицательном результате таргетного секвенирования или атипичной клинической картине целесообразно проведение полноэкзомного или полногеномного секвенирования [52]. Отдельной сложностью в диагностике ВСКМН является интерпретация вариантов мутаций неопределённой клинической значимости (VUS), которая требует участия опытного клинического генетика, что подтверждает необходимость направления пациентов с редкими ВСКМН в крупные исследовательские центры, имеющие опыт в диагностике данных нозологий [4, 6]
Прогнозирование риска развития злокачественных новообразований у пациентов с ВСКМН основывается на совокупности клинико-лабораторных и молекулярно-генетических данных. Установлено, что мутации ряда генов, включая GATA2, DDX41, TP53, ассоциированы с высоким риском трансформации в миелодиспластический синдром (МДС) и острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) [3, 7, 27]. Прогностически неблагоприятными признаками являются выявление дополнительных клональных цитогенетических аномалий (моносомия 7, делеции 5q), приобретённые соматические мутации (ASXL1, SETBP1), тяжёлая нейтропения или тромбоцитопения, а также выраженные иммунные нарушения. Динамическое наблюдение с регулярным морфологическим, цитогенетическим и молекулярным контролем позволяет выявить признаки клональной эволюции и определить оптимальный момент для проведения аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток — до развития острых форм миелоидных неоплазий и необратимых органных нарушений [19, 55, 56].
Дифференциальная диагностика ВСКМН включает исключение приобретённых апластических анемий, МДС у взрослых, вторичных иммунодефицитов, лекарственно-индуцированных и вирус-ассоциированных форм цитопении. [7, 52, 57].
Современные подходы к терапии ВСКМН
Современные стратегии лечения ВСКМН, ассоциированных с высоким риском развития злокачественных новообразований, формируются на основе молекулярно-генетической характеристики заболевания, клинической оценки риска, возраста пациента, наличия осложнений, степени цитопении и клональной эволюции. Принципы терапии зависят от нозологической формы, тяжести проявлений и динамики заболевания, а также от потенциального риска трансформации в миелодиспластический синдром (МДС), острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) или развития солидных опухолей [54, 57].
На сегодняшний день единая терапевтическая стратегия не определена, однако при отсутствии тяжелой цитопении или трансформации в МДС/ОМЛ, возможна наблюдательная тактика с регулярным мониторингом показателей крови, иммунного статуса и исследования клональности гемопоэза, а также симптоматическая терапия. При проведении заместительной терапии с целью коррекции анемии необходимо помнить о том, что длительное применение трансфузий требует контроля за перегрузкой железом и проведения хелаторной терапии [58]. Следует отметить, что рутинное применение Г-КСФ у пациентов с моносомией 7 и нейтропенией нежелательно в связи с высоким риском трансформации в МДС/ОМЛ.
Единственным методом, способным радикально устранить гематологические проявления ВСКМН и элиминировать риск трансформации в ОМЛ является проведение алло-ТГСК [13, 59]. Показаниями к трансплантации служат:
- выраженная цитопения (особенно с нейтропенией или тромбоцитопенией);
- МДС с или без избытка бластов;
- тяжелый иммунодефицит;
- легочный альвеолярный протеиноз или рецидивирующие тяжелые инфекции у пациентов с мутациями гена GATA2;
- наличие клональных цитогенетических изменений.
Одной из задач при планировании трансплантации является своевременное её выполнение — до развития МДС или ОМЛ, что существенно улучшает выживаемость [59]. При ряде синдромов (например, при дефиците GATA1, DDX41 или TP53) риск злокачественной трансформации настолько высок, что ТГСК рекомендуется даже в доклинической фазе, особенно при наличии прогностически неблагоприятных дополнительных мутаций или цитогенетических аномалий. При этом подход к выбору донора требует особой осторожности: родственные доноры должны быть предварительно протестированы на наличие герминальных мутаций [13, 54, 57].
Необходимо отметить, что выявление мутации TP53 оказывает значимое влияние на тактику лечения: стандартные схемы интенсивной терапии могут быть противопоказаны из-за высокой токсичности и риска развития вторичных опухолей [13, 21, 23].
Комплексный подход к лечению включает обязательную коррекцию сопутствующих заболеваний и состояний. У пациентов с иммунными нарушениями показана профилактика и лечение инфекций, вакцинация, использование иммуноглобулинов. При синдроме GATA2-дефицита, сопровождающемся лимфопенией и рецидивирующими инфекциями, назначение заместительной терапии иммуноглобулинами и противогрибковых препаратов может существенно снизить инфекционные осложнения до трансплантации [3, 17]
Наконец, важную роль играет мультидисциплинарное наблюдение пациентов. Генетическое консультирование членов семьи необходимо для выявления бессимптомных носителей мутаций, а также для определения тактики репродуктивного планирования и подбора неродственных доноров.
Заключение
Мутации генов GATA1, GATA2, TP53, DDX41, SRP72, MYSM1, SH2B3, CBLB и ERCC6L2 лежат в основе разнообразных клинико-фенотипических форм врождённой костномозговой недостаточности, часто маскирующихся под приобретённые формы аплазий кроветворения или миелодиспластических синдромов. Их своевременная идентификация с помощью современных молекулярно-генетических методов позволяет определять персонализированную тактику ведения пациентов, включая динамическое наблюдение, своевременное планирование трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и генетическое консультирование семей.
Несмотря на значительный прогресс в понимании патогенеза и клинических характеристик ВСКМН, остаются нерешёнными вопросы эффективной терапии при развитии солидных опухолей, вторичных мутаций и иммунных нарушений. Перспективными направлениями остаются разработка таргетных подходов, углублённое изучение механизмов клональной трансформации и включение пациентов в специализированные регистры и международные протоколы наблюдения и лечения.
Мультидисциплинарный подход, основанный на интеграции клинических, иммунологических и генетических данных, является основой для эффективного ведения пациентов с ВСКМН и снижения онкогематологического риска в данной уязвимой популяции.
Об авторах
Мария Сергеевна Васильева
Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева
Автор, ответственный за переписку.
Email: vmarie97@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9335-5286
врач-гематолог боксированного отделения гематологии/онкологии
РоссияАлексей Александрович Масчан
Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России
Email: amaschan@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0016-6698
Россия
Галина Анатольевна Новичкова
Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России
Email: gnovichkova@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-2322-5734
доктор медицинских наух, профессор, научный руководитель ФГБУ НМИЦ им. Д. Рогачева
РоссияСписок литературы
- 1. Park, M. Overview of inherited bone marrow failure syndromes. Blood Res 2022, 57 (Suppl 1): 49–54.
- 2. Dokal, I.; Tummala, H.; Vulliamy, T. Inherited bone marrow failure in the pediatric patient. Blood 2022, American Society of Hematology 140 (6): 556–570.
- 3. Sahoo, S. S.; Kozyra, E. J.; Wlodarski, M. W. Germline predisposition in myeloid neoplasms: Unique genetic and clinical features of GATA2 deficiency and SAMD9/SAMD9L syndromes. Best Practice & Research Clinical Haematology 2020, Elsevier BV 33 (3): 101197.
- 4. Elghetany, M. T.; Punia, J. N.; Marcogliese, A. N. Inherited Bone Marrow Failure Syndromes: Biology and Diagnostic Clues. Clinics in Laboratory Medicine 2021, 41 (3): 417–431.
- 5. Geyer, J. T. Myeloid Neoplasms with Germline Predisposition. Pathobiology 2019, S. Karger AG 86 (1): 53–61.
- 6. Mitchell, S. G.; Pencheva, B.; Porter, C. C. Germline Genetics and Childhood Cancer: Emerging Cancer Predisposition Syndromes and Psychosocial Impacts. Curr Oncol Rep 2019, 21 (10): 85.
- 7. Rudelius, M.; Weinberg, O. K.; Niemeyer, C. M.; Shimamura, A.; Calvo, K. R. The International Consensus Classification (ICC) of hematologic neoplasms with germline predisposition, pediatric myelodysplastic syndrome, and juvenile myelomonocytic leukemia. Virchows Arch 2023, Springer Science and Business Media LLC 482 (1): 113–130.
- 8. Hollanda, L. M.; Lima, C. S. P.; Cunha, A. F.; Albuquerque, D. M.; Vassallo, J.; Ozelo, M. C.; et al. An inherited mutation leading to production of only the short isoform of GATA-1 is associated with impaired erythropoiesis. Nat Genet 2006, 38 (7): 807–812.
- 9. Wechsler, J.; Greene, M.; McDevitt, M. A.; Anastasi, J.; Karp, J. E.; Le Beau, M. M.; et al. Acquired mutations in GATA1 in the megakaryoblastic leukemia of Down syndrome. Nat Genet 2002, 32 (1): 148–152.
- 10. Ling, T.; Crispino, J. D. GATA1 mutations in red cell disorders. IUBMB Life 2020, 72 (1): 106–118.
- 11. Takasaki, K.; Chou, S. T. GATA1 in Normal and Pathologic Megakaryopoiesis and Platelet Development. Adv Exp Med Biol 2024, 1459: 261–287.
- 12. Shimizu, R.; Yamamoto, M. GATA-related hematologic disorders. Exp Hematol 2016, 44 (8): 696–705.
- 13. Lu, Y.; Xiong, M.; Sun, R.-J.; Zhao, Y.-L.; Zhang, J.-P.; Cao, X.-Y.; et al. Hematopoietic stem cell transplantation for inherited bone marrow failure syndromes: alternative donor and disease-specific conditioning regimen with unmanipulated grafts. Hematology 2021, Informa UK Limited 26 (1): 134–143.
- 14. Абашидзе З.А., Калинина И.И., Хачатрян Л.А., и др. Транзиторный аномальный миелопоэз, миелодиспластический синдром и острый миелоидный лейкоз у детей с синдромом Дауна // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. - 2024. - Т. 23. - №4. - C. 23-33. doi: 10.24287/1726-1708-2024-23-4-23-33 [Abashidze, Z. A.; Kalinina, I. I.;Khachatryan, L. A.; et al. Transient abnormal myelopoiesis, myelodysplastic syndrome and acute myeloid leukemia in children with Down syndrome.: 4 Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology 2024, 23 (4): 23–33.]
- 15. Гаськова М.В., Ольшанская Ю.В., Абашидзе З.А. и др.. Острый мегакариобластный лейкоз с мутациями в гене GATA1 у детей без синдрома Дауна // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. - 2025. - Т. 24. - №1. - C. 50-57. doi: 10.24287/1726-1708-2025-24-1-50-57 [Gaskova, M. V.;; Olshanskaya, Y. V.;; Abashidze, Z. A.; et al. Pediatric non-Down syndrome acute megakaryoblastic leukemia with GATA1 mutations.: 1 Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology 2025, 24 (1): 50–57.]
- 16. Dickinson, R. E.; Griffin, H.; Bigley, V.; Reynard, L. N.; Hussain, R.; Haniffa, M.; et al. Exome sequencing identifies GATA-2 mutation as the cause of dendritic cell, monocyte, B and NK lymphoid deficiency. Blood 2011, 118 (10): 2656–2658.
- 17. Spinner, M. A.; Sanchez, L. A.; Hsu, A. P.; Shaw, P. A.; Zerbe, C. S.; Calvo, K. R.; et al. GATA2 deficiency: a protean disorder of hematopoiesis, lymphatics, and immunity. Blood 2014, 123 (6): 809–821.
- 18. Wlodarski, M. W.; Collin, M.; Horwitz, M. S. GATA2 deficiency and related myeloid neoplasms. Seminars in Hematology 2017, Elsevier BV 54 (2): 81–86.
- 19. Tsai, F. D.; Lindsley, R. C. Clonal hematopoiesis in the inherited bone marrow failure syndromes. Blood 2020, American Society of Hematology.
- 20. Ito, E. [Bone marrow failure and TP53 activating mutations]. Rinsho Ketsueki 2022, 63 (9): 1115–1125.
- 21. Giacomelli, A. O.; Yang, X.; Lintner, R. E.; McFarland, J. M.; Duby, M.; Kim, J.; et al. Mutational processes shape the landscape of TP53 mutations in human cancer. Nat Genet 2018, 50 (10): 1381–1387.
- 22. Bougeard, G.; Renaux-Petel, M.; Flaman, J.-M.; Charbonnier, C.; Fermey, P.; Belotti, M.; et al. Revisiting Li-Fraumeni Syndrome From TP53 Mutation Carriers. J Clin Oncol 2015, 33 (21): 2345–2352.
- 23. Toki, T.; Yoshida, K.; Wang, R.; Nakamura, S.; Maekawa, T.; Goi, K.; et al. De Novo Mutations Activating Germline TP53 in an Inherited Bone-Marrow-Failure Syndrome. Am J Hum Genet 2018, 103 (3): 440–447.
- 24. Liu, Y.; Su, Z.; Tavana, O.; Gu, W. Understanding the complexity of p53 in a new era of tumor suppression. Cancer Cell 2024, 42 (6): 946–967.
- 25. Chlon, T. M.; Stepanchick, E.; Hershberger, C. E.; Daniels, N. J.; Hueneman, K. M.; Kuenzi Davis, A.; et al. Germline DDX41 mutations cause ineffective hematopoiesis and myelodysplasia. Cell Stem Cell 2021, Elsevier BV 28 (11): 1966-1981.e6.
- 26. Polprasert, C.; Schulze, I.; Sekeres, M. A.; Makishima, H.; Przychodzen, B.; Hosono, N.; et al. Inherited and somatic defects in DDX41 in myeloid neoplasms. Cancer Cell 2015, 27 (5): 658–670.
- 27. Cheah, J. J. C.; Hahn, C. N.; Hiwase, D. K.; Scott, H. S.; Brown, A. L. Myeloid neoplasms with germline DDX41 mutation. Int J Hematol 2017, 106 (2): 163–174.
- 28. Becker, M. M. M.; Lapouge, K.; Segnitz, B.; Wild, K.; Sinning, I. Structures of human SRP72 complexes provide insights into SRP RNA remodeling and ribosome interaction. Nucleic Acids Res 2017, 45 (1): 470–481.
- 29. Iakhiaeva, E.; Yin, J.; Zwieb, C. Identification of an RNA-binding domain in human SRP72. J Mol Biol 2005, 345 (4): 659–666.
- 30. Gao, Y.; Zhang, Q.; Lang, Y.; Liu, Y.; Dong, X.; Chen, Z.; et al. Human apo-SRP72 and SRP68/72 complex structures reveal the molecular basis of protein translocation. J Mol Cell Biol 2017, 9 (3): 220–230.
- 31. Galaverna, F.; Ruggeri, A.; Locatelli, F. Myelodysplastic syndromes in children. Curr Opin Oncol 2018, 30 (6): 402–408.
- 32. Kirwan, M.; Walne, A. J.; Plagnol, V.; Velangi, M.; Ho, A.; Hossain, U.; et al. Exome sequencing identifies autosomal-dominant SRP72 mutations associated with familial aplasia and myelodysplasia. Am J Hum Genet 2012, 90 (5): 888–892.
- 33. Bahrami, E.; Witzel, M.; Racek, T.; Puchałka, J.; Hollizeck, S.; Greif-Kohistani, N.; et al. Myb-like, SWIRM, and MPN domains 1 (MYSM1) deficiency: Genotoxic stress-associated bone marrow failure and developmental aberrations. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2017, Elsevier BV 140 (4): 1112–1119.
- 34. Gatzka, M.; Tasdogan, A.; Hainzl, A.; Allies, G.; Maity, P.; Wilms, C.; et al. Interplay of H2A deubiquitinase 2A-DUB/Mysm1 and the p19ARF/p53 axis in hematopoiesis, early T-cell development and tissue differentiation. Cell Death Differ 2015, Springer Science and Business Media LLC 22 (9): 1451–1462.
- 35. Belle, J. I.; Petrov, J. C.; Langlais, D.; Robert, F.; Cencic, R.; Shen, S.; et al. Repression of p53-target gene Bbc3/PUMA by MYSM1 is essential for the survival of hematopoietic multipotent progenitors and contributes to stem cell maintenance. Cell Death Differ 2016, Springer Science and Business Media LLC 23 (5): 759–775.
- 36. Chen, X.; Wang, W.; Li, Y.; Huo, Y.; Zhang, H.; Feng, F.; et al. MYSM1 inhibits human colorectal cancer tumorigenesis by activating miR-200 family members/CDH1 and blocking PI3K/AKT signaling. J Exp Clin Cancer Res 2021, Springer Science and Business Media LLC 40 (1).
- 37. Gundabolu, K.; Dave, B. J.; Alvares, C. J.; Cannatella, J. J.; Bhatt, V. R.; Maness, L. J.; et al. The Missing LNK: Evolution from Cytosis to Chronic Myelomonocytic Leukemia in a Patient with Multiple Sclerosis and Germline SH2B3 Mutation. Case Rep Genet 2022, 2022: 6977041.
- 38. Koren-Michowitz, M.; Gery, S.; Tabayashi, T.; Lin, D.; Alvarez, R.; Nagler, A.; et al. SH2B3 (LNK) mutations from Myeloproliferative Neoplasms patients have mild loss of function against wild type JAK2 and JAK2 V617F. Br J Haematol 2013, 161 (6): 811–820.
- 39. Arfeuille, C.; Vial, Y.; Cadenet, M.; Caye-Eude, A.; Fenneteau, O.; Neven, Q.; et al. Germline bi-allelic SH2B3/LNK alteration predisposes to a neonatal juvenile myelomonocytic leukemia-like disorder. Haematologica 2024, 109 (8): 2542–2554.
- 40. Blombery, P.; Pazhakh, V.; Albuquerque, A. S.; Maimaris, J.; Tu, L.; Briones Miranda, B.; et al. Biallelic deleterious germline SH2B3 variants cause a novel syndrome of myeloproliferation and multi-organ autoimmunity. EJHaem 2023, 4 (2): 463–469.
- 41. Leardini, D.; Flex, E.; Stieglitz, E.; Cerasi, S.; Bertuccio, S. N.; Baccelli, F.; et al. Biallelic SH2B3 germline variants are associated with a neonatal myeloproliferative disease and multisystemic involvement. Eur J Hum Genet 2025,.
- 42. Vermeersch, G.; Devos, T.; Devos, H.; Lambert, F.; Poppe, B.; Van Hecke, S. Germline heterozygous SH2B3-mutations and (idiopathic) erythrocytosis: Detection of a previously undescribed mutation. EJHaem 2023, 4 (4): 1143–1147.
- 43. Martinelli, S.; Stellacci, E.; Pannone, L.; D’Agostino, D.; Consoli, F.; Lissewski, C.; et al. Molecular Diversity and Associated Phenotypic Spectrum of Germline CBL Mutations. Hum Mutat 2015, 36 (8): 787–796.
- 44. Janssen, E.; Peters, Z.; Alosaimi, M. F.; Smith, E.; Milin, E.; Stafstrom, K.; et al. Immune dysregulation caused by homozygous mutations in CBLB. J Clin Invest 2022, 132 (20): e154487.
- 45. Baccelli, F.; Leardini, D.; Muratore, E.; Messelodi, D.; Bertuccio, S. N.; Chiriaco, M.; et al. Immune dysregulation associated with co-occurring germline CBL and SH2B3 variants. Hum Genomics 2022, 16 (1): 40.
- 46. Sanada, M.; Suzuki, T.; Shih, L.-Y.; Otsu, M.; Kato, M.; Yamazaki, S.; et al. Gain-of-function of mutated C-CBL tumour suppressor in myeloid neoplasms. Nature 2009, 460 (7257): 904–908.
- 47. Tsai, Y.-L.; Arias-Badia, M.; Kadlecek, T. A.; Lwin, Y. M.; Srinath, A.; Shah, N. H.; et al. TCR signaling promotes formation of an STS1-Cbl-b complex with pH-sensitive phosphatase activity that suppresses T cell function in acidic environments. Immunity 2023, 56 (12): 2682-2698.e9.
- 48. Tummala, H.; Kirwan, M.; Walne, A. J.; Hossain, U.; Jackson, N.; Pondarre, C.; et al. ERCC6L2 mutations link a distinct bone-marrow-failure syndrome to DNA repair and mitochondrial function. Am J Hum Genet 2014, 94 (2): 246–256.
- 49. Järviaho, T.; Halt, K.; Hirvikoski, P.; Moilanen, J.; Möttönen, M.; Niinimäki, R. Bone marrow failure syndrome caused by homozygous frameshift mutation in the ERCC6L2 gene. Clin Genet 2018, 93 (2): 392–395.
- 50. Wlodarski, M. W. ERCC6L2 syndrome: attack of the TP53 clones. Blood 2023, 141 (23): 2788–2789.
- 51. Baccelli, F.; Leardini, D.; Cerasi, S.; Messelodi, D.; Bertuccio, S. N.; Masetti, R. ERCC6L2-related disease: a novel entity of bone marrow failure disorder with high risk of clonal evolution. Ann Hematol 2023, 102 (4): 699–705.
- 52. Zhang, M. Y.; Keel, S. B.; Walsh, T.; Lee, M. K.; Gulsuner, S.; Watts, A. C.; et al. Genomic analysis of bone marrow failure and myelodysplastic syndromes reveals phenotypic and diagnostic complexity. Haematologica 2015, Ferrata Storti Foundation (Haematologica) 100 (1): 42–48.
- 53. Bluteau, O.; Sebert, M.; Leblanc, T.; Peffault De Latour, R.; Quentin, S.; Lainey, E.; et al. A landscape of germ line mutations in a cohort of inherited bone marrow failure patients. Blood 2018, American Society of Hematology 131 (7): 717–732.
- 54. Shimamura, A.; Alter, B. P. Pathophysiology and management of inherited bone marrow failure syndromes. Blood Rev 2010, 24 (3): 101–122.
- 55. Godley, L. A.; Shimamura, A. Genetic predisposition to hematologic malignancies: management and surveillance. Blood 2017, American Society of Hematology 130 (4): 424–432.
- 56. Kennedy, A. L.; Shimamura, A. Genetic predisposition to MDS: clinical features and clonal evolution. Blood 2019, American Society of Hematology 133 (10): 1071–1085.
- 57. Calado, R. T.; Clé, D. V. Treatment of inherited bone marrow failure syndromes beyond transplantation. Hematology 2017, American Society of Hematology 2017 (1): 96–101.
- 58. Gattermann, N.; Muckenthaler, M. U.; Kulozik, A. E.; Metzgeroth, G.; Hastka, J. The Evaluation of Iron Deficiency and Iron Overload. Dtsch Arztebl Int 2021, 118 (49): 847–856.
- 59. Alter BP. Inherited bone marrow failure syndromes: considerations pre- and posttransplant. Blood. 2017 Nov 23;130(21):2257-2264. doi: 10.1182/blood-2017-05-781799. PMID: 29167174; PMCID: PMC5714231.
Дополнительные файлы