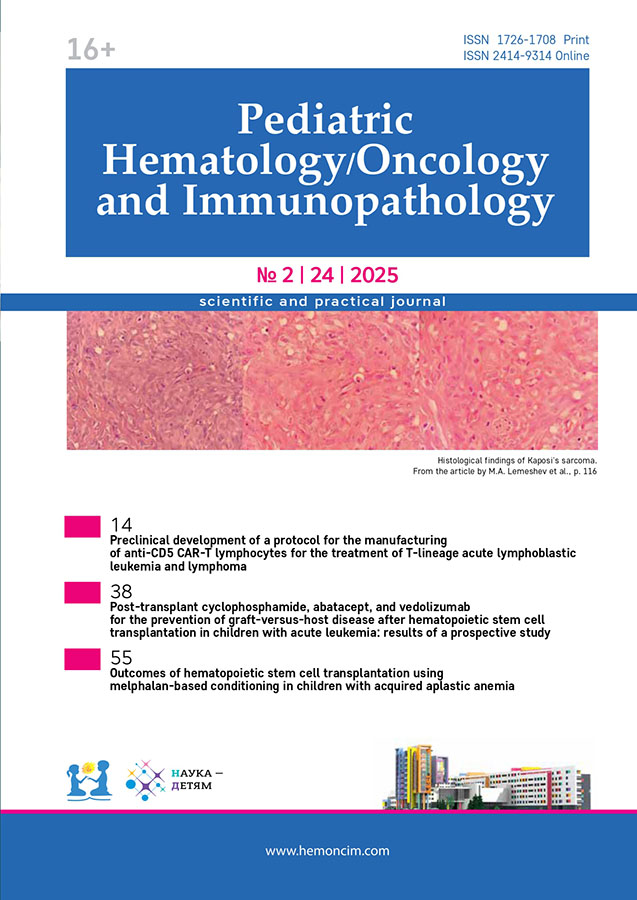Results of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from a genoidentical sibling after high-dose treosulfan-based conditioning in children with intermediate-risk acute myeloid leukemia in first clinical and hematological remission
- Authors: Kalinina I.I.1, Shelihova L.N.1, Ilyushina M.A.1, Bronin G.O.2, Antoshin M.M.3, Skorobogatova E.V.3, Maschan M.A.1, Novichkova G.A.1, Maschan A.A.1
-
Affiliations:
- Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
- Morozov Children's City Clinical Hospital of the Department of Health of Moscow
- Russian Children's Clinical Hospital of the N.I. Pirogov Russian National Research Medical University
- Issue: Vol 24, No 2 (2025)
- Pages: 62-72
- Section: ORIGINAL ARTICLES
- Submitted: 07.09.2025
- Accepted: 07.09.2025
- Published: 08.09.2025
- URL: https://hemoncim.com/jour/article/view/1016
- DOI: https://doi.org/10.24287/1726-1708-2025-24-2-62-72
- EDN: https://elibrary.ru/JDRKXV
- ID: 1016
Cite item
Full Text
Abstract
The value of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in first remission in children with intermediate-risk acute myeloid leukemia (AML) remains the matter of debate. We analyze the outcome of HSCT from a genoidentical sibling with high-dose treosulfan-based myeloablative conditioning and enhanced graft-versus-host disease (GVHD) prophylaxis in comparison with continuation of high-dose chemotherapy (CT). The study was approved by the Independent Ethics Committee and the Scientific Council of the Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology of Ministry of Healthcare of the Russian Federation. A group of interest consisted of 22 HSCT recipients and a comparison group consisted of 240 patients who received high-dose CT. The conditioning regimens included treosulfan (n = 15), busulfan (n = 3), and melphalan (n = 4). The graft source was bone marrow in 12 patients and peripheral stem cells in 10 patients. GVHD prophylaxis was intensified either by including 1 or 2 additional immunosuppressive drugs or by increasing the duration of prophylaxis. The comparison group consisted of 240 patients who received 1 or 2 cycles of high-dose cytarabine- based consolidation therapy. The groups were matched for all initial characteristics. Engraftment was achieved in all 22 HSCT recipients: the median time to granulocyte recovery was day +16 (range, day +11 - day +21) and the median time to platelet recovery was day +15 (range, day +11 - day +28). The main toxicities of the conditioning regimens were mucositis in 12 (54%) patients, skin lesions in 6 (27%) patients, and an increase of alanine aminotransferase in 4 (18%) patients. There were no cases of toxicity-related mortality. Acute and chronic GVHD, requiring medical treatment developed in 15% of the patients. Four HSCT recipients relapsed between 3 months to 3 years after HSCT. In the high-dose CT group, 24 (10%) patients died of infectious complications and 79 (37%) patients developed a relapse. The cumulative incidence of relapse was 0.23 ± 0.10 and 0.44 ± 0.4 and the probability of the overall survival was 0.88 ± 0.08 and 0.83 ± 0.03 in the HSCT group and high-dose CT group, respectively (p > 0.05). HSCT from a genoidentical sibling in intermediate-risk AML patients in first clinical and hematological remission is a safe and effective procedure, and tends to reduce the risk of AML relapse.
Full Text
Результаты лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ) у детей, несмотря на существенный прогресс, достигнутый за последние 20 лет, остаются субоптимальными. Если при анализе выживаемости при ОМЛ не учитывать пациентов с промиелоцитарным лейкозом, у которых благодаря комбинированной терапии полностью транс-ретиноевой кислотой и препаратами мышьяка показатели безрецидивной выживаемости должны приближаться к 100%, то даже в высокоразвитых странах, в которых на поток поставлены самые совершенные технологии лечения и создана сложная и дорогая инфраструктура сопроводительной терапии, вероятность выздоровления детей с ОМЛ составляет 65-70%, в то время как в менее развитых странах этот показатель находится на отметке 30-50%. В проведенном регистрационном исследовании результатов лечения ОМЛ в Российской Федерации нами показано, что вероятность 5-летней общей и бессобытийной выживаемости составила 0,60 ± 0,025 и 0,42 ± 0,025 соответственно при кумулятивном риске рецидива (КРР) 0,37 ± 0,027 [1].
Следует отметить, что за последние 20 лет улучшение показателей общей выживаемости достигнуто не за счет прорывов в результатах терапии первой линии, которая остается практически неизменной в течение 40 лет, а благодаря улучшению результатов терапии рецидивов и рефрактерных форм ОМЛ. Сегодня интенсивная химиотерапия (ХТ) и как кульминация - аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) позволяют добиться излечения примерно у 40% пациентов с рецидивами и рефрактерными формами ОМЛ [2].
В рамках современной терапевтической парадигмы, основанной на интенсивной индукционной терапии стандартными дозами цитарабина (AraC), стандартными/повышенными дозами антрациклинов и (в большинстве современных протоколов) этопозидом, постремиссионной терапии высокими дозами AraC (HDAraC) с антрациклинами и этопозидом и ТГСК у пациентов высокого риска вероятность достижения клинико-гематологической ремиссии с неопределяемой минимальной резидуальной (детектируемой) болезнью (МОБ) составляет 80-85% при КРР 30-40%. Следует подчеркнуть, что риск недостижения ремиссии, рецидива, а также шансы на успешную «терапию спасения» при данной терапевтической стратегии в наибольшей степени зависят от инициальных цитогенетических и молекулярно-генетических характеристик лейкемических клеток. В соответствии с этим современная стратификация разделяет первичных пациентов на группы стандартного, промежуточного и высокого риска. У пациентов группы стандартного риска, которая помимо CBF-лейкемий в последние годы пополнилась пациентами с ОМЛ с биаллельными мутациями в гене CEBPA и мутациями в гене NPM1 без активирующих мутаций в гене FLT3, вероятность достижения МОБ-негативной ремиссии приближается к 100% и риск рецидива составляет 20-30%. Поскольку большинство пациентов из группы стандартного риска, рецидивировавших после терапии первой линии, достигают повторной ремиссии и выздоровления после ТГСК во второй ремиссии, они не рассматриваются в качестве кандидатов на аллогенную ТГСК в первой полной ремиссии (ПР1). Напротив, у пациентов из группы высокого риска, несмотря на то, что 80% из них достигают полной ремиссии после терапии первой линии, вероятность развития рецидива составляет 50-90% вне зависимости от интенсивности постремиссионной терапии, и, более того, вероятность излечения даже при достижении второй ремиссии и проведении ТГСК не превышает 20-40%. Исходя из этого все пациенты из группы высокого риска расцениваются в качестве кандидатов на ТГСК в первой ремиссии ОМЛ.
У пациентов группы промежуточного риска, определяемого как ОМЛ с отсутствием цито- и молекулярно-генетических характеристик стандартного и высокого риска, вероятность получения МОБ- негативной ремиссии составляет около 90%, а риск рецидива - 30-40%. В связи с этим вопрос о необходимости ТГСК в ПР1 у этих пациентов является дискуссионным.
ТГСК традиционно считалась методом лечения гораздо более токсичным и ассоциированным с высоким по сравнению с ХТ количеством ранних и поздних осложнений и смертностью, особенно это касалось трансплантаций от альтернативных (неродственных и гаплоидентичных) доноров, в связи с чем у пациентов промежуточного риска ТГСК в первой ремиссии выполнялась только от геноидентичного сиблинга. В то же время своевременно проведенная ТГСК не более токсична, чем курсы интенсивной ХТ [3].
Более того, токсичности режимов кондиционирования, по крайней мере, ранней, главным образом связанной с применением высоких доз базового для пациентов с ОМЛ препарата - бусульфана (веноокклюзионная болезнь печени, судороги, тяжелые мукозиты, токсидермия, нарушения роста), можно избежать путем его замены на треосульфан, который в высоких суммарных дозах (36-42 г/м2) является миелоаблативным агентом с высокой антилейкеми- ческой активностью [4, 5].
Использование треосульфана вместо бусульфана в качестве базового миелоаблативного агента делает ТГСК существенно более безопасной процедурой, что особенно важно для пациентов с ОМЛ с промежуточным прогнозом. Кроме того, усовершенствование технологии подбора донора и методов профилактики реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) существенно снизило остроту проблемы острой и хронической РТПХ.
В данной статье мы проанализировали результаты терапии детей с ОМЛ промежуточного риска, получивших в ПР1 ТГСК от геноидентичного сиблинга с миелоаблативным кондиционированием на основе высоких доз треосульфана в сравнении с пациентами, вышедшими в ПР1 после курса индукционной ХТ, не имевшими HLA-идентичного сиблинга и не получившими трансплантацию.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В исследование включены пациенты в возрасте от 10 дней до 18 лет на момент установления диагноза ОМЛ промежуточного риска. Исследование одобрено независимым этическим комитетом и утверждено решением ученого совета НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.
Подробное описание протокола терапии и стратификация на группы риска была опубликована нами ранее. Коротко: до 2018 г. пациенты относились к группе промежуточного риска при отсутствии цитогенетических аномалий, характеризующих стандартный и высокий риск, после 2018 г. - в критерии стандартного риска добавились мутации в гене NPM1 без дополнительных молекулярных аномалий или с FL73-ITD с аллельным соотношением <0,5, нормальным кариотипом без FL73-ITD, М7-субвариант с t(1;22)(p13;q13)/RBM15::MKL1 и биаллельными мутациями в гене CEBPA. Также после 2018 г. обязательным условием являлось достижение МОБ-негативной ремиссии после курса индукции и сохранение МОБ-негативности до проведения ТГСК.
Пациентам промежуточного риска ТГСК планировалась только при наличии семейного геноидентичного донора. Следует особенно отметить, что пациенты, отвечающие инициальным критериям ОМЛ промежуточного риска, у которых не была достигнута ПР1 после индукционной терапии, получали лечение согласно «ветке» протокола для рефрактерных ОМЛ, и ТГСК (от любого аллогенного донора - родственного, неродственного, гаплоидентичного) планировалась всем. Эти первично рефрактерные пациенты не вошли в настоящий анализ.
Пациентам промежуточного риска, у которых был идентифицирован HLA-совместимый сиблинг (по всем 10 аллелям HLA, A, B, C, DR и DQ по высокому разрешению), ТГСК проводилась после 2 или 3 курсов ХТ - индукции стандартными дозами AraC, антрациклинами и этопозидом и 1-2 курсов постремиссионной терапии на основе HDAraC.
Всего ТГСК в ПР1 от родственного геноидентичного сиблинга была выполнена 22 пациентам. Источником гемопоэтических клеток был костный мозг (КМ) у 12 и мобилизованные с помощью гранулоцитарного колониестимулирующего фактора гемопоэтические клетки периферической крови (ПСК) - у 10 пациентов. У подавляющего большинства пациентов (п = 15) базовым миелоаблативным препаратом был треосульфан, у 3 - бусульфан и у 4 - мелфалан. У большинства пациентов профилактика РТПХ была усилена по сравнению со стандартной профилактикой ингибитором кальциневрина и коротким курсом метотрексата (таблица 1).
Таблица 1. Режимы кондиционирования и профилактика РТПХ у реципиентов ТГСК
Table 1. The conditioning regimens and prophylaxis of graft-versus-host disease (GVHD) in hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) recipients
Пациент Patient | Кондиционирование Conditioning | Профилактика РТПХ Источник трансплантата GVHD prophylaxis Graft source | |
№1 | Тгел + Flu + VP | ПТЦф + ММФ КМ PTCy + MMF BM | |
№2 | Treo + Mel + Flu | ПТЦф + руксолитиниб + абатацепт ПСК PTCy + ruxolitinib + abatacept PBSC | |
№3 | Treo + Mel + Flu | Абатацепт + тофацитиниб ПСК Abatacept + tofacitinib PBSC | |
№4 | Treo + Mel + Flu | CsA + ММФ КМ CsA + MMF BM | |
№5 | Treo + Mel + Flu | Mtx + CsA ПСК Mtx + CsA PBSC | |
№6 | Treo + Mel + Flu | Mtx + CsA ПСК Mtx + CsA PBSC | |
№7 | Treo + Mel + Flu | Mtx + CsA BM' | |
№8 | !reo + Flu + VP | ПТЦф | t + барицитиниб + абатацепт, ведолизумаб КМ PTCy + baricitinib + abatacept + vedolizumab BM |
№9 | !reo + Flu + VP | ПТЦф | t + барицитиниб + абатацепт, ведолизумаб КМ PTCy + baricitinib + abatacept + vedolizumab BM |
№10 | Treo + Thio + Flu | Абатацепт + тоцилизумаб + бортезомиб ПСК* Abatacept + tocilizumab + bortezomib PBSC* | |
№11 | Treo + Mel + Flu | CsA, ММФ КМ CsA, MMF BM | |
№12 | !reo + Flu + VP | ПТЦф, CsA ПСК PTCy, CsA PBSC | |
№13 | Treo + Mel + Flu | CsA, абатацепт, ММФ КМ CsA, abatacept, MMF BM | |
№14 | !reo + Flu + VP | ПТЦф + руксолитиниб + абатацепт + ведолизумаб ПСК PTCy + ruxolitinib + abatacept + vedolizumab PBSC | |
№15 | !reo +Flu + VP | ПТЦф + руксолитиниб + абатацепт + ведолизумаб ПСК PTCy + ruxolitinib + abatacept + vedolizumab PBSC | |
№16 | Bu + Mel + Flu | АТГ + Mtx КМ ATG + Mtx BM | |
№17 | Bu + Flu + Thio | Tacro + Mtx pbsc | |
№18 | Bu + Flu + Thio | Tacro + Mtx pBgc | |
№19 | Mel + HDAraC + Mit + Flu | АТГ + CsA + ММФ КМ ATG + CsA + MMF BM | |
№20 | Mel + HDAraC + Mit + Flu | АТГ + CsA + Mtx КМ ATG + CsA + Mtx BM | |
№21 | Mel + HDAraC +Mit + Flu | АТГ + CsA + ММФ КМ ATG + CsA + MMF BM | |
№22 | Mel + Flu + HDAraC + Mit | АТГ + CsA + ММФ КМ ATG + CsA + MMF BM | |
Примечание. Treo - треосульфан 42 г/м2; Bu - бусульфан 16 мг/кг; Mel - мелфалан 180 мг/м2 при монотерапии, 140 мг/м2 при сочетании с treo; thio - тиотепа 10 мг/мг; ПТЦф - посттрансплантационный циклофосфамид; АТГ - антитимоцитарный глобулин; Mtx - метотрексат; Flu - флударабин 150 мг/м2; VP - этопозид 60 мг/кг; Mit - митоксантрон; ММФ - микофенолата мофетил; CsA - циклоспорин; Tacro - такролимус. * - у этого пациента проводилась a/b-CD19-деплеция трансплантата.
Note. Treo - treosulfan 42 g/m2; Bu - busulfan 16 mg/kg; Mel - melfalan 180 mg/m2 as monotherapy, 140 mg/m2 in combination with treo; thio - thiotepa 10 mg/kg; - posttransplant cyclophosphamide; ATG - antithymocyte globulin; Mtx - methotrexate; Flu - fludarabin 150 mg/m2; VP - etoposide 60 mg/kg; Mit - mitoxantrone; HDAraC - high dose cytarabine; MMF - mycophenolate mofetil; CsA - cyclosporine; Tacro - tacrolimus. BM - bone marrow; PBSC - peripheral blood stem cell; * - this patient received depleted PBSC.
Данные по режимам кондиционирования и профилактике РТПХ представлены в таблице 1.
Профилактику веноокклюзионной болезни печени не проводили. ТГСК осуществлялась в стерильных боксах с HEPA-фильтрацией и положительным давлением воздуха, профилактика/лечение инфекционных осложнений и трансфузионная терапия проводились согласно стандартным протоколам. Плановое назначение гранулоцитарного колониестимулирующего фактора не рекомендовалось, однако оставлялось на усмотрение лечащего врача.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из 1082 первичных пациентов с ОМЛ 355 относились к группе инициального промежуточного риска (184 мальчика и 171 девочка), медиана возраста8,5 лет (от 10 дней до 17,8 года) (Q1 2,5; Q3 13,9). Медиана числа лейкоцитов в дебюте заболевания составила 17,2 (0,25-540) х 109/л (Q1 4,4; Q3 64,2), у 105 пациентов отмечен гиперлейкоцитоз выше 50 х 109/л, инициальный нейролейкоз выявлен у 17% пациентов, наличие экстрамедуллярного поражения было зарегистрировано в 30 (8%) случаях. Распределение по FAB-субвариантам было стандартным: наиболее часто встречались М5 и М2 - у 132 (37%) и 85 (24%) пациентов соответственно, далее по частоте встречались М4 - у 47 (13%), М1 - у 41 (11,5%), Мх - у 36 (10%), М7 - у 6 (1,5%), М4 с эозинофилией - у 5 (1,4%) и М0 - у 3 пациентов.
Генетическая характеристика группы представлена в таблице 2.
Большинство пациентов получали терапию по протоколам ОМЛ-ИРй-2018 (n = 193; 55%) и 0МЛ-ММ-2000/2006 (п = 101; 28%), остальные - по протоколам группы BFM [6-9].
После индукционного курса ХТ полной ремиссии достигли 283 (80%) пациента, в 44 (12%) случаях ремиссия не была достигнута и 28 (8%) умерли до точки контроля достижения ремиссии.
В дальнейшем 15 (5%) из 283 пациентов, достигших ремиссии, в ходе терапии развернули гематологический или МОБ-рецидив (повышение уровня МОБ >0,1%) и были переведены на ветвь терапии для пациентов с рефрактерным течением заболевания, состоящую из интенсивной ХТ, как правило, HDAraC + идарубицин + флударабин с последующей обязательной ТГСК, чаще всего от гаплоидентичного семейного донора.
При наличии геноидентичного сиблинга после 3 курсов ХТ пациенты в ПР1 направлялись на ТГСК, а пациенты, не имеющие донора, получали еще 1 курс интенсивной ХТ HDAraC + идарубицин. Поддерживающей ХТ после окончания интенсивной фазы протокола пациенты не получали.
Двадцать четыре пациента (8%) умерли в ремиссии до возможного проведения ТГСК или последнего блока полихимиотерапии. Шесть пациентов в ходе терапии при получении данных NGS были рестратифицированы в группу высокого риска, все они получили ТГСК в первой ремиссии от альтернативного донора.
Всего ТГСК от геноидентичного сиблинга проведена 22 пациентам, группа сравнения составила 216 пациентов (блок-схема, рисунок 1).
Группы родственной ТГСК и ХТ были сравнимы по инициальным характеристикам (таблица 3).
Результаты терапии у реципиентов ТГСК (п = 22)
Медиана интервала от даты диагноза до проведения ТГСК составила 3 (1,5-7) мес.
Таблица 2. Генетическая характеристика пациентов, включенных в исследование (п = 355)
Table 2. Genetic characteristics of the patients included in the study (n = 355)
Генетическая характеристика Genetic characteristics | Число пациентов Number of patients |
Нормальный кариотип Normal karyotype | 91 |
t(9;11)(p21;q23)/KMT2A::MLLT3 | 90 |
Другое (различные цитогенетические перестройки) Other (various cytogenetic rearrangements) | 47 |
Биаллельные мутации CEBPA biCEBPA | 30 |
NPM(+) без дополнительных молекулярных аномалий или с FLT3-ITD с аллельным соотношением <0,5 NPM(+) without additional molecular abnormalities or with FLT3-ITD with an allele ratio <0.5 | 27 |
Нет митозов No mitoses | 27 |
Нет данных No data | 12 |
Трисомия 8-й хромосомы (+8) Trisomy 8 (+8)
| 11 |
Трисомия 21-й хромосомы (+21) Trisomy 21 (+21) | 10 |
t(1;11)(q21;q23)/KMT2A::MLLT11 | 8 |
М7 + t(1;22)(p13;q13)/RBM15::MKL1 | 2 |
Органная токсичность кондиционирования заключалась главным образом в мукозитах (гингивит, стоматит, фарингит, эзофагит), зарегистрированных у 12 (54%) пациентов, токсидермии - у 6 (27%), повышении аланинаминотрансферазы - у 4 (18%). У всех пациентов развилась фебрильная нейтропения, по поводу которой проводилась комбинированная антимикробная терапия. Случаев веноокклюзионной болезни печени, респираторного дистресс-синдрома, осложнений со стороны центральной или периферической нервной системы не было.
У всех пациентов зарегистрировано приживление трансплантата: гранулоциты - на день +16 (медиана), тромбоциты - на день +15 (медиана). Ни один пациент не умер в результате инфекционных или токсических осложнений в раннем посттрансплантационном периоде.
Оценить развитие РТПХ было возможно только у 13 пациентов, из них острая форма развилась у 2 (15%) пациентов, с максимальной степенью III - у 1 (8%) пациента. Во всех случаях РТПХ полностью регрессировала под влиянием терапии глюкокортикоидами. Хроническая форма развилась у 2 (15%) пациентов и была лимитированной и экстенсивной - по у 1 (8%) случаю.
Рецидив ОМЛ развился у 4 (18%) из 22 реципиентов ТГСК: у 2 - поздний (1,2 и 3,2 года от достижения ПР1) и у 2 - ранний (3 и 6 мес от достижения ПР1). После проведения «терапии спасения» 2 пациентки с рецидивом достигли ПР2 и получили повторные ТГСК от гаплоидентичных доноров, у 2 пациентов достичь ПР2 не удалось, оба они умерли от прогрессии заболевания.
Таким образом, на момент данного анализа живы 20 пациентов с медианой наблюдения 6,3 года (2 мес - 16,5 лет): 18 в ПР1, 1 - в ПР2 и 1 получает лечение по поводу 2-го рецидива ОМЛ. Расчетная 5-летняя общая выживаемость составила 0,88 ± 0,08, КРР на 5 лет - 0,23 ± 0,10 (рисунки 2, 3).
Результаты терапии у пациентов, не получивших ТГСК
Двадцать четыре пациента (10%) умерли от инфекционных осложнений в фазе миелотоксического агранулоцитоза после проведения курсов HDAraC.
Из 216 пациентов, достигших ПР1, переживших осложнения высокодозной терапии и оставшихся в ПР1 после последнего курса ХТ, рецидив в дальнейшем развился в 79 (37%) случаях. КРР составил 0,44 ± 0,04 (рисунок 3).
Повторной ремиссии удалось достичь у 62 (78%) рецидивировавших и 46 (95%) из них проведена ТГСК в ПР2. У 9 из 62 пациентов ПР2 достигнута только после трансплантации. ТГСК в статусе активного заболевания проведена 18 (23%) рецидивировавшим пациентам, у которых не удалось добиться повторной ремиссии. ПР2 достигли 12 пациентов.
Всего на момент настоящего анализа умерли 29 (37%) рецидивировавших пациентов из данной подгруппы. Общая выживаемость в группе пациентов, которые не получили ТГСК в ПР1 составила 0,83 ± 0,03 (рисунок 2).
Кривые общей выживаемости и КРР в сравниваемых группах представлены на рисунках 2, 3.
Статистически достоверной разницы в общей выживаемости получено не было.
Различия в показателях КРР в пользу реципиентов ТГСК прослеживаются на уровне тенденции, однако не достигают статистической значимости.
На настоящее время из 355 пациентов, включенных в исследование, жив 241 (68%) пациент, из них 175 (73%) в ПР1. Восемь пациентов были потеряны из-под наблюдения в ПР1. В рецидиве живы 4 пациента, во второй ремиссии и более - 54.
Рисунок 1 Блок-схема результатов исследования ПР2 – вторая полная ремиссия
Figure 1. Flow-chart showing the results of the study CR2 - second complete remission
Таблица 3. Инициальные характеристики исследуемых групп
Table 3. The initial characteristics of the study groups
Параметр Parameter | ТГСК (n = 22) HSCT (n = 22) | ХТ (n = 216) CT (n = 216) | P |
Возраст, медиана (разброс, квартили), годы Age, median (range, quartiles), years | 5,4 (0,4-17,1) (Q1 1,9; Q3 10,5) | 8,1 (0,18-17,7) (Q1 2,4; Q3 13,6) | 0,33 |
Пол, мужской/женский Gender, boys/girls | 7/15 | 104/112 | 0,14 |
Клинико-гематологические данные Clinical and hematological data at diagnosis | |||
Лейкоцитоз, медиана (разброс, квартили) WBC count, median (range, quartiles) | 21,8 (2,2-231) (Q1 6,8; Q3 29,2) | 13,8 (0,25-540) (Q1 4,3; Q3 52,2) | 0,49 |
Гиперлейкоцитоз Hyperleukocytosis | 6 | 55 | >0,05 |
Нейролейкоз CNS leukemia | 1 | 28 | >0,05 |
Экстрамедуллярное поражение Extramedullary involvement | 1 | 12 | >0,05 |
FAB-субвариант FAB subvariant | |||
М0 | 1 | 1 |
|
М1 | 4 | 28 |
|
М2 | 5 | 47 |
|
М4 | 2 | 29 |
|
М4 с эозинофилией M4 with eosinophilia | 0 | 4 | >0,05 |
М5 | 9 | 80 |
|
М7 | 0 | 5 |
|
Мх | 1 | 22 |
|
Цитогенетические данные Cytogenetic data | |||
Нормальный кариотип Normal karyotype | 6 | 52 |
|
t(9;11)(p21;q23)/KMT2A::MLLT3 + M5 | 5 | 54 |
|
Другое Other | 3 | 25 |
|
NPM1 | 2 | 18 |
|
Биаллельные мутации CEBPA biCEBPA | 1 | 25 |
|
Нет данных No data | 1 | 7 | >0,05 |
Нет митозов No mitoses | 1 | 16 |
|
t(1;11)(q21;q23)/KMT2A::MLLT11 | 1 | 7 |
|
Трисомия 8-й хромосомы (+8) Trisomy 8 (+8) | 1 | 2 |
|
Трисомия 21-й хромосомы (+21) Trisomy 21 (+21) | 0 | 8 |
|
t(1;22)(p13;q13)/RBM15::MKL1 | 0 | 2 |
|
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведение аллогенной ТГСК в ПР1 является самым радикальным методом терапии ОМЛ, снижающим риск рецидива заболевания примерно вдвое [3, 10].
В то же время повышенная токсическая летальность, связанная с ТГСК, обусловленная побочными эффектами мегадозной ХТ, а также острой и хронической РТПХ с сопутствующим им тяжелым иммунодефицитом, в достаточно большой мере нивелирует преимущества метода. Главными аргументами оппонентов широкого применения ТГСК у детей с ОМЛ являются ссылки на улучшившиеся результаты ХТ и высокую вероятность достижения повторной ремиссии у пациентов с рецидивом с возможностью проведения трансплантации во второй ремиссии заболевания. Действительно, у пациентов стандартного риска достаточно высокая вероятность безрецидивной выживаемости (70-80%) и улучшившиеся результаты «терапии спасения» формируют рациональную базу для отказа от ТГСК в ПР1 [11].
Рисунок 2 Пятилетняя общая выживаемость в исследуемых группах
Figure 2. The 5-year overall survival in the study groups
Рисунок 3 КРР на 5 лет наблюдения
Figure 3. The cumulative risk of relapse at 5 years of follow-up
Напротив, у пациентов высокого риска результаты ХТ остаются неудовлетворительными, а для некоторых подгрупп (например, с нарушениями экспрессии или мутациями в генах NUP98, TP53, MECOM) - попросту катастрофическими, поэтому проведение ТГСК у пациентов, достигших ПР1, является обязательным для достижения излечения [12, 13].
ТГСК у пациентов промежуточного риска в протоколах ведущих исследовательских групп не предусмотрена при достижении и сохранении ПР1 в течение 3-4 мес постремиссионной терапии. Даже в отношении ТГСК от геноидентичного донора преобладающим является негативное отношение, не говоря о трансплантации от альтернативных доноров, которые вообще не рассматриваются в качестве опции консолидации ремиссии у пациентов промежуточного риска.
Публикаций, в которых анализируются результаты аллогенной ТГСК в ПР1 у пациентов промежуточного риска, практически нет. В самом «свежем» исследовании эффективности гаплоидентичной ТГСК с миелоаблативным кондиционированием у детей с ОМЛ промежуточного риска после получения как минимум 3 курсов интенсивной ХТ показано, что КРР через 3 года составил 25,4 ± 4,5%, при вероятности бессобытийной выживаемости >80% у реципиентов, получивших ТГСК в МОБ-негативной ПР1, значительно превосходя аналогичные показатели пациентов, продолживших интенсивную ХТ. При этом острая и хроническая РТПХ развилась у неприемлемо большой доли пациентов в результате неадекватной профилактики (без посттрансплантационного циклофосфамида или иммуномагнитной деплеции) [14].
В нашем исследовании, в котором «отсортированная» согласно современным критериям популяция пациентов с ОМЛ промежуточного риска получила ТГСК в ПР1 с кондиционированием на основе высоких доз треосульфана, прослежена четкая тенденция к улучшению общей выживаемости и снижению КРР, хотя статистически эта разница недостоверна в связи с малочисленностью группы пациентов, получивших трансплантацию. Важным фактом является то, что ни один из реципиентов ТГСК в ПР1 не умер от токсичности процедуры, в то время как смертность пациентов, получавших дальнейшую высокодозную терапию, составила 10%, что является неприемлемо высоким показателем, хотя статистически разница в летальности оказалась недостоверной (p = 0,1).
Следует особенно подчеркнуть, что результаты анализа сравнительной эффективности ТГСК против ХТ, полученные 15-25 лет назад, экстраполировать на сегодняшние реалии совершенно некорректно, поскольку определение групп промежуточного и высокого риска существенно поменялось. Уже 20 лет назад было очевидно, что группа промежуточного риска, являясь весьма разнородной «группой исключения», должна постепенно уменьшаться вплоть до полного исчезновения по мере накопления данных по эффективности стандартной ХТ у пациентов, у которых идентифицированы новые хромосомные или молекулярные аномалии высокого риска (например, мутации в генах NUP98, ETV6 или активирующие мутации в гене FLT3). Кроме того, сегодня для принятия решения о целесообразности трансплантации в ПР1 появилась возможность опираться на такой важнейший критерий, как уровень МОБ, несравненно более объективный, чем морфологическая оценка, показатель качества (глубины) ремиссии, достигаемой с помощью ХТ [15].
Двумя важнейшими аргументами против проведения ТГСК в ПР1 являются достаточно высокая вероятность достижения повторной ремиссии с последующей трансплантацией при рецидиве и высокая общая токсичность процедуры ТГСК.
При этом представление о высокой эффективности терапии рецидива у пациентов инициально высокого или промежуточного риска является ложным. Так, в работе Klein и соавт. показано, что вероятность общей выживаемости пациентов с нормальным кариотипом и хромосомными аномалиями, характеризовавшими инициальный ОМЛ как заболевание промежуточного риска, не превышает 35% [11].
В нашем исследовании лишь 78% пациентов с рецидивом ОМЛ после интенсивной ХТ, достигли ПР2 и лишь 52% были живы на момент анализа.
Представления же о высокой токсичности ТГСК в большой мере сформированы на основании опыта 1980-2000-х годов, когда в качестве базовых миелjаблативных элементов режима кондиционирования использовались либо тотальное облучение тела, либо высокие дозы бусульфана, которые в сочетании с высокими дозами циклофосфамида и несовершенной профилактикой РТПХ действительно приводили к тяжелым ранним и поздним осложнениям в виде тяжелых мукозитов, геморрагических циститов, веноокклюзионной болезни печени, тяжелой острой и хронической РТПХ, катаракте, гипофункции щитовидной железы,диспропорционального роста костей и многим другим.
Пополнение арсенала миелоаблативных агентов треосульфаном и замена циклофосфамида на флударабин привели к заметному снижению частоты, тяжести и в целом профиля ранней токсичности режимов кондиционирования [16-18]. В нашем исследовании ни один реципиент ТГСК не умер от токсичности процедуры, в то время как 10% пациентов, которые получали дальнейшую терапию HDAraC с антрациклинами и этопозидом, умерли от инфекционных осложнений.
У пациентов с ОМЛ монотерапия циклоспорином А или в комбинации с метотрексатом (короткий курс) в течение десятилетий оставались базой медикаментозной профилактики РТПХ, обеспечивая реализацию эффекта «трансплантат-против-лейкемии» при приемлемых рисках тяжелой РТПХ. При двойной профилактике вероятность развития острой РТПХ II–IV степени у реципиентов геноидентичной трансплантации составляет не менее 30-40%, а риск хронической РТПХ - 20-25% [19, 20].
В то же время миелоаблативное кондиционирование при ОМЛ промежуточного риска, который является химиочувствительным вариантом заболевания, позволяет полагаться не только на иммунологические эффекты ТГСК, в значительной степени коррелирующие с развитием РТПХ, но и на, собственно, эрадикационный потенциал режима кондиционирования. Понимание этого позволяет оптимизировать (усилить, удлинить) профилактику РТПХ, не рискуя общим антилейкемическим эффектом трансплантации.
В нашем исследовании токсичность режимов кондиционирования, базовым препаратом в которых являлся треосульфан, была по «трансплантационным» меркам умеренной и ограничивалась мукозитами, токсидермией и повышением аланина-минотрансферазы, причем частота этих побочных эффектов практически зеркально отражает данные литературы. У большинства пациентов профилактика РТПХ была усилена за счет либо продления терапии микофенолата мофетилом до 60 дней после ТГСК, либо добавления антитимоцитарного глобулина, либо использования ингибиторов JAK2 и абатацепта, либо посттрансплантационного циклофосфамида (таблица). Низкая вероятность развития клинически значимой РТПХ (15%) не привела к увеличению вероятности редицива, которая составила стандартные 23%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, у пациентов промежуточного риска ТГСК в ПР1, выполненная после миелоаблативного кондиционирования, основанного на высоких дозах треосульфана, является безопасной и эффективной процедурой, способной снизить риск рецидива ОМЛ.
В заключение необходимо подчеркнуть, что после 20 лет стагнации результатов лечения ОМЛ у детей появились препараты, которые способны значительно улучшить прогноз пациентов. Прежде всего, это относится к гемтузумабу озогамицину, венетоклаксу и ингибиторам FLT3, их интеграция в протоколы первой линии изменит и результаты терапии, и наши представления о группах риска. Тем не менее, до того, как лечебный потенциал новых препаратов станет окончательно ясен, ТГСК, особенно с учетом достигнутого прогресса в области безопасности технологии, останется важным оружием в арсенале лечения ОМЛ.
ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
Не указан.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы статьи подтвердили отсутствие конфликта интересов, о котором необходимо сообщить.
About the authors
Irina I. Kalinina
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
Author for correspondence.
Email: Irina.Kalinina@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0002-0813-5626
Russian Federation, Moscow
Larisa N. Shelihova
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
Email: lshelihova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0520-5630
Russian Federation, Moscow
Maria A. Ilyushina
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
Email: maria.ilushina@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7652-7704
Russian Federation, Moscow
Gleb O. Bronin
Morozov Children's City Clinical Hospital of the Department of Health of Moscow
Email: mdgkb@zdrav.mos.ru
ORCID iD: 0000-0002-0694-3996
Russian Federation, Moscow
Mikhail M. Antoshin
Russian Children's Clinical Hospital of the N.I. Pirogov Russian National Research Medical University
Email: no-reply@eco-vector.ru
ORCID iD: 0000-0002-6129-2647
Russian Federation, Moscow
Elena V. Skorobogatova
Russian Children's Clinical Hospital of the N.I. Pirogov Russian National Research Medical University
Email: skorobog.e@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4431-1444
Russian Federation, Moscow
Michael A. Maschan
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
Email: Michael.Maschan@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0003-1735-0093
Russian Federation, Moscow
Galina A. Novichkova
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
Email: Galina.Novichkova@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0002-2322-5734
Russian Federation, Moscow
Alexey A. Maschan
Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology
Email: Aleksey.Maschan@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0002-0016-6698
Russian Federation, Moscow
References
- Kalinina I.I., Venyov D.A., Sadovskaya M.N., Starichkova Yu.V., Voronin K.A. The results of a registry study on acute myeloid leukemia in Russian children. Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology 2025; 24 (1): 26-38. (In Russ.)
- Kaspers G.J., Zimmermann M., Reinhardt D., Gibson B.E., Tamminga R.Y., Aleinikova O., et al. Improved outcome in pediatric relapsed acute myeloid leukemia: results of a randomized trial on liposomal daunorubicin by the International BFM Study Group. J Clin Oncol 2013; 31 (5): 599-607. DOI: 10.1200/ JCO.2012.43.7384
- Michel G., Leverger G., Leblanc T., Nelken B., Baruchel A., Landman-Parker J., et al. Allogeneic bone marrow transplantation vs aggressive post-remission chemotherapy for children with acute myeloid leukemia in first complete remission. A prospective study from the French Society of Pediatric Hematology and Immunology (SHIP). Bone Marrow Transplant 1996; 17 (2): 191-6.
- Casper J., Knauf W., Blau I., Ruutu T., Volin L., Wandt H., et al. Treosulfan/fludarabine: a new conditioning reg¬imen in allogeneic transplantation. Ann Hematol 2004; 83 Suppl 1: S70-1. doi: 10.1007/s00277-004-0850-2
- Danylesko I., Shimoni A., Nagler A. Treosulfan-based conditioning before hematopoietic SCT: more than a BU look-alike. Bone Marrow Transplant 2012; 47 (1): 5-14. doi: 10.1038/bmt.2011.88
- Kalinina I.I., Shneyder M.M., Kirsanova N.P., Baidildina D.D., Suntsova E.V., Goronkova O.V., et al. Clinical and genetic characteristics of acute myeloid leukemia with t(8;21) in children and results of therapy according to protocol AML-MM-2000. Oncogematology 2011; 6 (1): 11-8. (In Russ.)
- Vasilyeva M.S., Kalinina I.I., Venev D.A., Lebedeva S.A., Bankole V.A., Abashidze Z.A., et al. Preliminary results of treatment of intermediate-risk patients according to the AML-MRD-2018 protocol. Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology 2025; 24 (1): 14-25. (In Russ.)
- Kalinina I.I., Venyov D.A., Olshanskaya Yu.V., Sadovskaya M.N., Goronkova O.V., Salimova T.Yu. The outcomes of children with acute myeloid leukemia treated in accordance with the AML-MM-2006 protocol. Pediatric Hematology/Oncology and Immunopathology 2022; 21 (1): 20-35. (In Russ.)
- Rasche M., Zimmermann M., Borschel L., Bourquin J.P., Dworzak M., Klingebiel T., et al. Successes and challenges in the treatment of pediatric acute myeloid leukemia: a retrospective analysis of the AML-BFM trials from 1987 to 2012. Leukemia 2018; 32 (10): 2167-77. doi: 10.1038/s41375-018-0071-7
- Woods W.G., Neudorf S., Gold S., Sanders J., Buckley J.D., Barnard D.R., et al.; Children's Cancer Group. A comparison of allogeneic bone marrow transplantation, autologous bone marrow transplantation, and aggressive chemotherapy in children with acute myeloid leukemia in remission. Blood 2001; 97 (1): 56-62. doi: 10.1182/blood.v97.1.56
- Klein K., Beverloo H.B., Zimmermann M., Raimondi S.C., von Neuhoff C., de Haas V., et al. Prognostic significance of chromosomal abnormalities at relapse in children with relapsed acute myeloid leukemia: A retrospective cohort study of the relapsed AML 2001/01 Study. Pediatr Blood Cancer 2022; 69 (1): e29341. doi: 10.1002/pbc.29341
- Struski S., Lagarde S., Bories P., Puiseux C., Prade N., Cuccuini W., et al. NUP98 is rearranged in 3.8% of pediatric AML forming a clinical and molecular homogenous group with a poor prognosis. Leukemia 2017; 31 (3): 565-72. DOI: 10.1038/ leu.2016.267
- Cucchi D.G.J., Bachas C., Klein K., Huttenhuis S., Zwaan C.M., Ossenkoppele G.J., et al. TP53 mutations and relevance of expression of TP53 pathway genes in paediatric acute myeloid leukaemia. Br J Haematol 2020; 188 (5): 736-9. DOI: 10.1111/ bjh.16229
- Xue Y.J., Cheng Y.F., Lu A.D., Wang Y., Zuo Y.X., Yan C.H. et al. Efficacy of haploidentical hematopoietic stem cell transplantation compared with chemotherapy as postremission treatment of children with intermediate-risk acute myeloid leukemia in first complete remission. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2021; 21 (2): e126-36. doi: 10.1016/j.clml.2020.09.004
- Inaba H., Coustan-Smith E., Cao X., Pounds S.B., Shurtleff S.A., Wang K.Y., et al. Comparative analysis of different approaches to measure treatment response in acute myeloid leukemia. J Clin Oncol 2012; 30 (29): 3625-32. DOI: 10.1200/ JCO.2011.41.5323
- Sykora K.W., Beier R., Schulz A., Cesaro S., Greil J., Gozdzik J., et al. Treosulfan vs busulfan conditioning for allogeneic bmt in children with nonmalignant disease: a randomized phase 2 trial. Bone Marrow Transplant 2024; 59 (1): 107-16. doi: 10.1038/s41409-023-02135-9
- Beelen D.W., Trenschel R., Stelljes M., Groth C., Masszi T., Remenyi P., et al. Treosulfan or busulfan plus fludarabine as conditioning treatment before allogeneic haemopoietic stem cell transplantation for older patients with acute myeloid leukaemia or myelodysplastic syndrome (MC-FludT.14/L): a randomised, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet Haematol 2020; 7(1): e28-39. doi: 10.1016/S2352- 3026(19)30157-7
- Huttunen P., Taskinen M., Vetten- ranta K. Acute toxicity and outcome among pediatric allogeneic hematopoietic transplant patients conditioned with treosulfan-based regimens. Pediatr Hema- tol Oncol 2020; 37 (5): 355-64. doi: 10.1080/08880018.2020.1738604
- Neudorf S., Sanders J., Kobrinsky N., Alonzo T.A., Buxton A.B., Gold S., et al. Allogeneic bone marrow transplantation for children with acute myelocytic leukemia in first remission demonstrates a role for graft versus leukemia in the maintenance of disease-free survival. Blood 2004; 103 (10): 3655-61. DOI: 10.1182/ blood-2003-08-2705
- Pochon C., Detrait M., Dalle J.H., Michel G., Dhedin N., Chalandon Y., et al. Improved outcome in children compared to adolescents and young adults after allogeneic hematopoietic stem cell transplant for acute myeloid leukemia: a retrospective study from the Francophone Society of Bone Marrow Transplantation and Cell Therapy (SFGM-TC). J Cancer Res Clin Oncol 2022; 148 (8): 2083-97. doi: 10.1007/s00432-021- 03761-w
Supplementary files