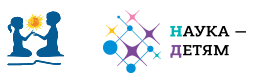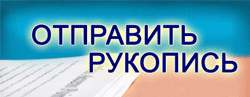Результаты лечения пациентов с медуллобластомой группы стандартного риска: роль молекулярно-генетической стратификации
- Авторы: Флегонтов А.Н.1, Друй А.Е.1, Процветкина А.В.1, Зайцева М.А.1, Гегелия Н.В.1, Петрова В.С.1, Сенченко М.А.1, Тараканова А.В.1, Санакоева А.В.1, Артемов А.В.1, Горностаев В.В.1, Сальникова Е.А.1, Сысоев А.Е.1, Меришавян А.А.1, Колдашева М.М.1, Дегтярев В.А.1, Касич И.Н.1, Емельянова Д.А.1, Вилесова И.Г.1, Кихтенко У.С.2, Новичкова Г.А.1, Грачев Н.С.1, Карачунский А.И.1,2, Папуша Л.И.1
-
Учреждения:
- ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
- ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
- Раздел: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- Статья получена: 11.07.2025
- Статья одобрена: 17.09.2025
- Статья опубликована: 18.09.2025
- URL: https://hemoncim.com/jour/article/view/993
- DOI: https://doi.org/10.24287/j.993
- ID: 993
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Введение. Медуллобластома (МБ) является клинически и биологически гетерогенной опухолью ЦНС, однако текущие критерии стратификации на группы риска основываются преимущественно на клинико-морфологических характеристиках. Целью настоящего исследования была оценка молекулярно-генетических характеристик опухоли у пациентов с МБ группы стандартного риска и анализ их влияния на клиническое течение заболевания и отдалённые результаты лечения.
Цель. Оценка молекулярно-генетических характеристик опухоли у пациентов стандартной группы риска медуллобластомы и анализ их влияния на клиническое течение заболевания и отдалённые результаты лечения.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 137 пациентов с МБ, соответствующих критериям группы стандартного риска в соответствии с протоколом HIT-MED 2014 (версия 2020). У всех пациентов была верифицирована молекулярная подгруппа (WNT, SHH, группы 3 или 4). Оценивались общая и бессобытийная выживаемость, частота и характер рецидивов в зависимости от молекулярной подгруппы, дозы краниоспинального облучения (КСО) и интервала до начала лучевой терапии.
Результаты. Пятилетняя общая выживаемость (ОВ) в общей когорте составила 84%, бессобытийная выживаемость (БСВ) – 74%. Наилучшие результаты лечения были отмечены у пациентов с МБ подгруппы WNT (ОВ 93%, БСВ 86%), однако у 14,6% из них были зафиксированы рецидивы, исключительно у пациентов, получивших краниоспинальное облучение (КСО) в дозе 23,4 Гр. В подгруппе SHH частота рецидивов составила 39,1% и была ассоциирована с наличием мутаций в гене TP53. Эскалация дозы КСО не улучшила выживаемость в этой группе. Пациенты группы 3 имели наиболее неблагоприятный прогноз с высоким числом ранних метастатических рецидивов, преимущественно при получении дозы КСО 23,4 Гр. В группе 4 отмечены промежуточные показатели выживаемости и умеренная частота рецидивов (22%). Доза КСО и интервал до начала лучевой терапии не оказали значимого влияния на выживаемость в общей когорте.
Заключение. Молекулярная подгруппа является значимым прогностическим фактором даже у пациентов с благоприятным клинико-морфологическим профилем. Полученные данные подчёркивают необходимость внедрения молекулярной стратификации в рутинную клиническую практику и осторожности при рассмотрении стратегий деэскалации или интенсификации терапии в группе стандартного риска.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Медуллобластома (МБ) является одной из наиболее распространённых злокачественных опухолей центральной нервной системы (ЦНС) у детей, составляя до 20% всех нейроонкологических заболеваний в педиатрической популяции [1-2]. Несмотря на агрессивное течение, внедрение мультимодальных подходов, включающих операцию, лучевую и химиотерапию, позволило существенно улучшить результаты лечения [3-4].
Наиболее благоприятный прогноз наблюдается у пациентов группы стандартного риска, к которой, согласно современным протоколам, относят детей старше 3 лет (или 5 лет — при десмопластическом варианте и/или молекулярной подгруппе SHH), после тотальной или субтотальной резекции опухоли, без метастазов, не имеющих признаков анаплазии при гистологическом исследовании и без амплификации генов MYC и MYCN [5]. Данная категория составляет, по данным литературы, от 50 до 60% пациентов с МБ, а пятилетняя общая выживаемость достигает 75–85% [6-7].
Стандартное лечение в этой группе включает краниоспинальное обучение (КСО) в дозе 23,4 Гр с бустом на ложе опухоли до 54 Гр и последующую поддерживающую химиотерапию на основе ломустина, цисплатина и винкристина [5]. При этом, несмотря на относительно благоприятный прогноз, проводимая агрессивная терапия сопряжена с отсроченной токсичностью, а рецидив заболевания в большинстве случаев остаётся фатальным [8-11].
Современные данные свидетельствуют о том, что МБ представляет собой молекулярно гетерогенное заболевание. В классификации ВОЗ CNS WHO 2016/2021 выделяют четыре молекулярные подгруппы: WNT, SHH, группа 3 и группа 4, каждая из которых отличается по возрасту дебюта, паттерну метастазирования, гистологическим признакам, спектру генетических аберраций и прогнозу [12-14]. Тем не менее, в клинической практике молекулярные характеристики часто используются ограниченно. Стратификация, по-прежнему, основывается преимущественно на клинико-морфологических параметрах, а молекулярные маркеры (например, мутации в гене TP53, амплификация генов MYC/ MYCN) не всегда определяются рутинно, особенно в условиях ограниченных ресурсов. В результате группа стандартного риска включает молекулярно разнородных пациентов, как с благоприятным, так и с потенциально неблагоприятным прогнозом [15].
В последние годы развивается подход к более детализированной молекулярной стратификации, включая выделение субтипов внутри группы SHH и группы 3/4, обладающих различным биологическим поведением и выживаемостью [16-18]. Эти данные открывают возможности для уточнённой прогностической оценки и оптимизации терапии даже среди пациентов стандартного риска.
Целью настоящего исследования явилась оценка молекулярно-генетических характеристик опухоли у пациентов стандартной группы риска медуллобластомы и анализ их влияния на клиническое течение заболевания и отдалённые результаты лечения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Общая характеристика когорты. Критерии включения
С ноября 2012 по октябрь 2024 года в НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева медуллобластома была гистологически верифицирована у 799 пациентов. Необходимая для стратификации информация была доступна у 618 пациентов (77,3%) в возрасте до 21 года. На основании ретроспективной оценки клинико-морфологических и молекулярно-генетических характеристик, соответствующих критериям протокола HIT-MED 2014 (версия 2020), 149 пациентов (18,6%) были отнесены к группе стандартного риска (рис. 1).
Критерии отнесения к группе стандартного риска включали: возраст старше 3 лет (или 5 лет — для десмопластического варианта в подгруппе SHH) и младше 21 года, объём остаточной опухоли менее 1,5 см³ (R0-стадия), отсутствие метастатического распространения (М0-стадия), неанапластический гистологический тип, отсутствие амплификации генов MYC или MYCN.
Пациенты с неверифицированной молекулярно-генетической подгруппой (n = 7), а также пациенты, получившие химиотерапию на первом этапе лечения (n = 5) в связи с ошибочной интерпретацией стадии заболевания или наличием послеоперационных осложнений, препятствовавших своевременному началу лучевой терапии, были исключены из анализа. Таким образом, 137 пациентов, удовлетворяющих критериям HIT-MED стандартной группе риска, вошли в финальную когорту и были включены в настоящее исследование [5] (рис. 1).
Стратификация пациентов и последующий анализ выживаемости проводились ретроспективно по единым критериям, независимо от версии использованного протокола лечения. Дополнительные характеристики, не являвшиеся формальными критериями стратификации (объём лучевой терапии и сроки ее начала, дополнительные молекулярные аберрации), не являлись основаниями для исключения из анализа, но учитывались при интерпретации отдалённых результатов.
Рис. 1. Алгоритм формирования когорты пациентов группы стандартного риска.
Fig. 1. The algorithm for forming a cohort of patients at standard risk.
Методы лечения
После оперативного вмешательства пациенты получали специфическую терапию согласно актуальной на момент лечения версии протокола HIT-MED. Программная терапия включала КСО в дозе 23,4 Гр или 35,2 Гр с бустом на заднюю черепную ямку до 54–55 Гр и последующей поддерживающей терапией, состоящей из 8 курсов химиотерапии по схеме ломустин/цисплатин/винкристин.
Молекулярно-генетические методы
Оценка амплификации генов MYC и MYCN, являющихся критерием стратификации риска, проводилась всем пациентам методом флуоресцентной гибридизации in situ (FISH), в части случаев – проспективно. Анализ выполнялся на парафиновых срезах с подсчётом ≥100 ядер опухолевых клеток; амплификация определялась при наличии соотношения сигналов ≥10:1.
Молекулярная подгруппа медуллобластомы (WNT, SHH, группы 3 и 4) определялась с использованием технологии экспрессионного профилирования NanoString nCounter (NanoString Technologies, США). Применялась модифицированная панель, включающая 23 гена с дифференциальной экспрессией, характерной для каждой из четырёх молекулярных подгрупп [19]. Молекулярная подгруппа была верифицирована у 142 пациентов, удовлетворяющих критериям группы стандартного риска. С целью сравнения дополнительно был проведён анализ молекулярной классификации 296 пациентов, отнесённых к другим группам риска, что позволило сопоставить распределение молекулярных подгрупп между когортами.
У части пациентов, отнесённых к подгруппе SHH, выполнялось целевое высокопроизводительное секвенирование (NGS) с использованием панели «Генетическая характеристика детских солидных опухолей» (Pediatric Oncopanel v4.2), включающей кодирующие последовательности, сайты сплайсинга и наиболее клинически значимые экзоны более 90 генов, ассоциированных с опухолями детского возраста.
Статистический анализ
Статистическая обработка данных проводилась с использованием программной среды R (версия 4.2.2). Для сравнения категориальных переменных применялись χ²-критерий и точный критерий Фишера. Для оценки различий между группами по количественным и категориальным признакам использовались двухсторонние статистические критерии. Статистически значимыми считались различия при p<0,05. При множественных сравнениях применялась коррекция p-значений по Холму.
Анализ выживаемости включал оценку общей выживаемости (ОВ), определяемой как время от постановки диагноза (даты оперативного вмешательства) до смерти от любой причины или цензурирования на дату последнего наблюдения, и бессобытийной выживаемости (БСВ), определяемой как время от постановки диагноза до первого события (рецидив, вторая опухоль высокой степени злокачественности или смерть от любой причины). Выживаемость оценивалась методом Каплана-Майера; для сравнения кривых выживаемости между группами использовался критерий лог-ранга. Кумулятивная частота рецидивов оценивалась с учётом конкурирующих рисков (включая развитие второй опухоли); различия между группами сравнивались с помощью теста Грея.
Для оценки факторов, ассоциированных с выживаемостью, использовалась многофакторная модель пропорциональных рисков Кокса, включающая молекулярную подгруппу, дозу краниоспинального облучения (23,4 против 35,2 Гр), интервал от операции до начала лучевой терапии (≤6 недель и >6 недель) [20].
Рецидивы классифицировались по времени возникновения (на фоне терапии, ранние <24 мес. от постановки диагноза, поздние ≥24 мес. от постановки диагноза) и по локализации (локальные, метастатические, комбинированные) на основании данных нейровизуализации [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Распределение молекулярных подгрупп достоверно различалось между пациентами группы стандартного риска и остальной когортой (p<0,001; рис. 2). В группе стандартного риска значительно чаще выявлялась подгруппа WNT (p<0,001), в то время как частота подгруппы SHH (p=0,0015) и группы 3 (p<0,001) была ниже. Распределение подгруппы 4 значимо не отличалось между сравниваемыми группами (p=0,39).
Рис. 2. Доля пациентов с различными молекулярными подгруппами в группе стандартного риска (n=142) и других группах риска (n=296); p-значения указаны для межгрупповых сравнений (χ², коррекция по холму), включены все пациенты с полной информацией для стадирования и верифицированной молекулярной подгруппой.
Fig. 2. Proportion of patients with different molecular subgroups in the standard risk group (n = 142) and other risk groups (n = 296); p-values are indicated for intergroup comparisons (χ2, hill correction), all patients with complete information for staging and a verified molecular subgroup are included.
Распределение по полу также достоверно различалось между молекулярными подгруппами (p<0,001; рис. 3А): в подгруппе WNT преобладали пациенты женского пола, тогда как в группах 3 и 4 – мужского. Подгруппа SHH демонстрировала более равномерное распределение. Существенные различия отмечены между WNT и группами 3 (p=0,005) и 4 (p<0,001), сравнения между другими подгруппами статистической значимости не показали.
Медиана возраста на момент постановки диагноза составила 8,6 лет (интервал: 3,2–18,5). Хотя различия по возрасту между подгруппами не достигали статистической значимости, для WNT отмечалась тенденция к более старшему возрасту (рис. 3Б).
Рис. 3. Распределение пациентов по полу и возрасту в зависимости от молекулярной подгруппы: а – соотношение мальчиков и девочек, указаны значения p для значимых различий (Fisher Exact Test, коррекция по холму); б – возраст на момент диагноза, внутри блоков указаны медианы для каждой молекулярной группы, пунктиром обозначена медиана по общей когорте (8,6 лет).
Fig. 3. Distribution of patients by gender and age depending on the molecular subgroup: А — the ratio of boys and girls, p-values for significant differences are indicated (fisher exact test, hill correction); Б — age at the time of diagnosis, medians for each molecular group are indicated inside the blocks, the dotted line indicates the median for the general cohort (8.6 years old).
У большинства пациентов заболевание манифестировало общемозговой симптоматикой (52,5%) или её сочетанием с мозжечковым синдромом (40,9%) (рис. 4А). Изолированный атактический синдром в дебюте наблюдался у 9 пациентов (6,6%). Медиана интервала от первых симптомов до операции составила 42 дня (интервал: 7–480).
Анатомическая локализация и гистологический тип опухоли достоверно различались между подгруппами (p<0,001). У пациентов с SHH МБ чаще наблюдалась гемисферная локализация (60,9%) и десмопластическая морфология (52,2%) опухоли. В подгруппе WNT опухоль, как правило, располагалась в черве мозжечка (78%) и имела классическое строение (97,6%). В группах 3 и 4 чаще отмечалась смешанная локализация и преобладание классического варианта. Различия между SHH и остальными подгруппами были статистически значимыми, тогда как между другими парами подгрупп значимость отсутствовала.
Рис. 4. Клинико-морфологические характеристики медуллобластомы у пациентов группы стандартного риска: а — частота симптомов манифестации; Б — анатомическая локализация в зависимости от молекулярной подгруппы; В — гистологические варианты по молекулярным подгруппам; статистически значимые различия указаны для подгруппы SHH (χ², коррекция по холму).
Fig. 4. Clinical and morphological characteristics of medulloblastoma in patients at standard risk: А — frequency of symptoms; Б — anatomical localization depending on the molecular subgroup; В — histological variants by molecular subgroups; statistically significant differences are indicated for the SHH subgroup (χ2, hill correction).
Медиана времени наблюдения в исследуемой когорте составила 4,6 лет (диапазон: 0,8–11,1). Пятилетняя ОВ составила 84% (95% ДИ: 77–92), БСВ – 74% (95% ДИ: 67–83) (рис. 5А).
После оперативного вмешательства все пациенты получили лучевую терапию.
КСО в дозе 23,4 Гр было проведено 103 пациентам (75,2%), тогда как 34 пациента (24,8%) получили дозу 35,2 Гр. Интервал от операции до начала лучевой терапии составлял ≤6 недель у 84 пациентов (61,3%) и >6 недель – у 53 пациентов (38,7%). Ни доза КСО, ни интервал до начала ЛТ не оказали достоверного влияния на ОВ (рис. 5Б, 5Г) и БСВ (рис. 5В, 5Д).
Рис. 5. Анализ выживаемости в исследуемой когорте: A – ОВ и БСВ для всей когорты; Б-В – сравнение ОВ и БСВ в зависимости от дозы краниоспинального облучения; Г-Д – сравнение ОВ и БСВ в зависимости от интервала между операцией и началом лучевой терапии.
Fig. 5. Survival analysis in the study cohort: А – ОВ and БСВ for the entire cohort; Б-В – comparison of ОВ and БСВ depending on the dose of craniospinal radiation; Г-Д – comparison of ОВ and БСВ depending on the interval between surgery and the start of radiation therapy.
Показатели выживаемости различались между молекулярными подгруппами (рис. 6A-Б). Наилучшие показатели ОВ были зафиксированы у пациентов подгруппы WNT (93%, 95% ДИ: 83–100) и группы 4 (86%, 74–98), тогда как в подгруппе SHH и группе 3 они составили 79% (62–100) и 74% (56–97) соответственно. Аналогичная тенденция наблюдалась и по БСВ: 5-летняя БСВ составила 86% [75–98] в подгруппе WNT и 73% (61–89) в группе 4, по сравнению с 67% (48–91) в подгруппе SHH и 62% (44–87) в группе 3.
Рис. 6. Показатели выживаемости и частоты рецидивов в зависимости от молекулярной подгруппы: общая (А) и бессобытийная (Б) выживаемость; кумулятивная частота рецидивов (В).
Fig. 6. Survival rates and recurrence rates depending on the molecular subgroup: overall (А) and event-free (Б) survival; cumulative recurrence rate (В).
Кумулятивная частота рецидивов через 4 года также варьировала (рис. 6В). Наименьший риск рецидива наблюдался в подгруппе WNT (14%), тогда как максимальная частота рецидивов была отмечена в подгруппе SHH и группе 3 (33% и 38% соответственно). Различия были статистически значимыми (p=0,03), однако после коррекции по Холму значимость была утрачена (p=0,2).
Многофакторный анализ подтвердил значение молекулярной подгруппы как независимого прогностического маркера. Относительный риск наступления неблагоприятного события был выше в подгруппе SHH (p=0,018) и в группе 3 (p=0,023) по сравнению с подгруппой WNT. Однако после поправки на множественные сравнения статистическая значимость сохранялась лишь на уровне тенденции (рис. 7А–Б). Доза КСО и интервал до начала ЛТ не были ассоциированы с риском неблагоприятного исхода.
Рис. 7. Результаты многофакторного анализа факторов, ассоциированных с ОВ (А) и БСВ (Б); * — p-значения после коррекции по Холму.
Fig. 7. Results of a multifactorial analysis of factors associated with ОВ (А) and БСВ (Б); * — p-values after hill correction.
Подгруппа WNT
Медиана времени наблюдения в подгруппе WNT составила 5,2 лет (интервал: 1,1–10,3). Эта группа характеризовалась наилучшими отдалёнными результатами: рецидивы заболевания были зарегистрированы у 6 пациентов (14,6%), преимущественно с метастатическим поражением (4 из 6, 66,7%), чаще в области боковых желудочков (рис. 8). 50% рецидивов были ранними. Несмотря на низкую частоту рецидивов, 5-летняя выживаемость оказалась несколько ниже ожидаемой: ОВ – 93% (95% ДИ: 83–100), БСВ – 86% (75–98).
Рис. 8. МРТ пациентов с метастатическим рецидивом МБ подгруппы WNT с типичной локализацией в области боковых желудочков: A, Д — пациент 1, Т1-ВИ с контрастным усилением (КУ), аксиальная (А) и фронтальная (Д) проекции; Б, Е — пациент 2, Т1-ВИ с КУ, аксиальная (Б) и фронтальная (Е) проекции; В, Ж — пациент 3, Т1-ВИ с КУ, аксиальная (В) и фронтальная (Ж) проекции; Г, З — пациент 3, 3D T2 Cube FLAIR, аксиальная (Г) и фронтальная (З) проекции.
Fig. 8. MRI of patients with metastatic recurrence of МБ of the WNT subgroup with typical localization in the lateral ventricles: A, Д — patient 1, T1-ВИ with contrast enhancement (CE), axial (A) and frontal (E) projections; Б, Е — patient 2, T1-ВИ with CE, axial (B) and frontal (F) projections; В, Ж — patient 3, T1-ВИ with CE, axial (C) and frontal (G) projections; Г, З — patient 3, 3D T2 Cube FLAIR, axial (D) and frontal (H) projections.
Сравнение показателей выживаемости в зависимости от дозы КСО (23,4 Гр, n=31, медиана наблюдения – 6,0 лет; 35,2 Гр, n=10, медиана наблюдения – 3,2 года) не выявило статистически значимых различий по ОВ (p=0,5) и БСВ (p=0,2) (рис. 9). Однако все рецидивы были выявлены в группе с дозой КСО 23,4 Гр (19,4%), в то время как у пациентов, получивших КСО в дозе 35,2 Гр рецидивов не наблюдалось.
Рис. 9. Сравнение ОВ и БСВ в молекулярных подгруппах МБ в зависимости от дозы краниоспинального облучения (23,4 / 35,2 Гр).
Fig. 9. Comparison of ОВ and БСВ in the molecular subgroups of МБ depending on the dose of craniospinal irradiation (23.4 / 35.2 Gy).
Подгруппа SHH
Медиана времени наблюдения в подгруппе SHH составила 3,3 года (диапазон: 1,8–11,1). Эта группа продемонстрировала одни из наиболее низких показателей выживаемости: 5-летняя ОВ — 79% (62–100), БСВ — 67% (48–91). Частота рецидивов оказалась наиболее высокой и составила 39,1%. Большинство рецидивов были ранними (66,7%), в том числе один рецидив развился на фоне проводимой терапии. По локализации рецидивов отмечено приблизительно равное распределение между локальными и метастатическими формами. Кроме того, у одной пациентки была диагностирована вторая злокачественная опухоль – диффузная глиома высокой степени злокачественности.
Неожиданные результаты были получены при анализе зависимости выживаемости от дозы КСО. Пациенты, получавшие КСО в дозе 23,4 Гр (n=14, медиана наблюдения – 4,9 лет), имели более высокие показатели 5-летней ОВ и БСВ — 85% (68–100) и 75% (53–100) соответственно, по сравнению с группой 35,2 Гр (n=9, медиана наблюдения – 2,8 лет), где соответствующие значения составили 66% (35–100) и 56% (31–100). При этом различия по БСВ приближалось к уровню статистической значимости (p=0,059).
Анализ соматических мутаций в группе SHH был выполнен у 18 из 23 пациентов (78,3%) (рис. 10А). Мутации в гене TP53 были выявлены у 6 пациентов (33,3% из числа проанализированных). Развитие рецидивов ассоциировалось с наличием мутации в гене TP53, достигая уровня тенденции (p=0,11). При этом БСВ составила 33% (95% ДИ: 11–100) у пациентов с наличием мутаций и 92% (77–100) у пациентов с ТР53 дикого типа (рис. 10Б). Интересно, что у пациента с самым длительным периодом наблюдения в общей когорте – 11,1 лет, без признаков рецидива – была выявлена мутация TP53 (ENST00000269305.9):c.656C>T (p.Pro219Leu), а также сопутствующие мутации в генах PTCH1 (NM_000264.5):c.2528G>A (p.Trp843Ter) и CTNNB1 (NM_001904.4):c.98C>G (p.Ser33Cys).
Рис. 10. Мутационный профиль и прогноз в подгруппе SHH: А — распределение соматических мутаций у пациентов подгруппы SHH (n=18), красной рамкой отмечены пациенты с рецидивом заболевания; Б — БСВ в зависимости от статуса гена tp53.
Fig. 10. Mutation profile and prognosis in the shh subgroup: А — distribution of somatic mutations in patients of the shh subgroup (n = 18), patients with disease recurrence are marked in a red box; Б — БСВ depending on the status of the tp53 gene.
Группа 3
Пациенты группы 3 продемонстрировали наихудшие показатели выживаемости среди всех анализируемых групп. Медиана времени наблюдения составила 5,0 лет (1,0–8,7). Рецидивы наблюдались у 8 из 23 пациентов (34,8%), один пациент имел вторую злокачественную опухоль. В трех случаях (13%) рецидивы возникли на фоне терапии. В большинстве случаев (75%) рецидив носил метастатический характер.
При сравнении выживаемости в зависимости от дозы КСО статистически значимых различий не выявлено. Пятилетние ОВ и БСВ в группе 23,4 Гр составили 74% и 64%, при 35,2 Гр – 67% и 50%. Из-за малого числа пациентов в группе 35,2 Гр (n=5) дополнительно была рассчитана 3-летняя выживаемость: ОВ составила 81% (23,4 Гр) и 100% (35,2 Гр); БСВ — 64% и 75% соответственно. Однако различия не достигали статистической значимости. Примечательно, что в группе 23,4 Гр все рецидивы произошли в первые 2 года после операции, включая 3 метастатических рецидива на фоне терапии. В группе пациентов, получивших КСО 35,2 Гр оба рецидива были поздними.
Группа 4
Группа 4 была наиболее распространенной в исследуемой когорте (n=50, 36,5%). Медиана времени наблюдения составила 4,5 года (0,8–10,2). Рецидивы были выявлены у 11 пациентов (22,0%), при этом большинство из них (72,2%) были метастатическими (табл. 1).
Пятилетняя ОВ составила 86% (95% ДИ: 74–98), БСВ – 73% (61–89), что соответствует промежуточным результатам между благоприятной группой WNT и менее благоприятными подгруппой SHH и группой 3. Сравнение по дозе КСО (23,4 Гр, n=40; 35,2 Гр, n=10) не выявило значимых различий: ОВ составила 86% (95% ДИ: 74–100) и 83% (95% ДИ: 58–100), БСВ – 75% (95% ДИ: 61–90) и 64% (95% ДИ: 34–100) (p>0,9 и p=0,8 соответственно).
Таблица 1. Клиническая характеристика молекулярных подгрупп пациентов с МБ группы стандартного риска, включая характеристику рецидивов
Table 1. Clinical characteristics of molecular subgroups of patients with МБ of the standard risk group, including characteristics of relapses
Молекулярно-генетическая группа | Общая когорта, n=137 | WNT, n=41 | SHH, n=23 | Группа 3, n=23 | Группа 4, n=50 |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ* | |||||
Медиана длительности наблюдения, лет (интервал) | 4,6 (0,8-11,1) | 5,2 (1,1-10,3) | 3,3 (1,8-11,1) | 5,0 (1,0-8,7) | 4,5 (0,8-10,2) |
Показатели 5-летней выживаемости (интервал): • ОВ • БСВ | 84% (77-92) 74% (67-83) | 93% (83-100) 86% (75-98) | 79% (62-100) 67% (48-91) | 74% (56-97) 62% (44-87) | 86% (74-98) 73% (61-89) |
Неблагоприятные события: • Рецидив • Вторая опухоль | 34 (24,8%) 2 (1,5%) | 6 (14,6%) – | 9 (39,1%) 1 (4,3%) | 8 (34,8%) 1 (4,3%) | 11 (22,0%) – |
Статус на момент последнего наблюдения: • Жив • Умер | 113 (82,5%) 24 (17,5%) | 38 (92,7%) 3 (7,3%) | 16 (69,6%) 7 (30,4%) | 15 (65,2%) 8 (34,8%) | 44 (88,0%) 6 (12,0%) |
Смерть от рецидива | 22 (16,1%) | 3 (7,3%) | 6 (26,1%) | 7 (30,4%) | 6 (12,0%) |
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЦИДИВОВ** | |||||
Вид рецидива по времени развития: • На терапии • Ранний (<24 мес.) • Поздний (>24 мес.) | 3 (8,8%) 18 (52,9%) 13 (38,3%) | – 3 (50%) 3 (50%) | 1 (11,1%) 5 (55,6%) 3 (33,3%) | 3 (37,5%) 3 (37,5%) 2 (25%) | – 6 (54,5%) 5 (45,5%) |
Вид рецидива по локализации: • Локальный • Метастатический • Смешанный | 9 (26,5%) 22 (64,7%) 3 (8,8%) | 2 (33,3%) 4 (66,7%) – | 5 (55,6%) 4 (44,4%) – | 1 (12,5%) 6 (75%) 1 (12,5%) | 1 (9,1%) 8 (72,7%) 2 (18,2%) |
Примечание: * — относительные значения указаны от общего числа пациентов в подгруппе; ** — относительные значения указаны от числа рецидивов в соответствующей подгруппе.
Note: * — relative values are indicated from the total number of patients in the subgroup; ** — relative values are indicated from the number of relapses in the corresponding subgroup.
ОБСУЖДЕНИЕ
Медуллобластома является одной из наиболее хорошо охарактеризованных опухолей ЦНС, в том числе, с точки зрения молекулярной биологии. Для нее более десятилетия существует общепризнанная молекулярная классификация, включающая четыре подгруппы: WNT, SHH, группы 3 и 4. Опухоли данных подгрупп различаются по гистогенезу, паттернам рецидивирования, чувствительности к терапии и прогнозу, что неоднократно подтверждено крупными исследованиями и метаанализами [12, 17]. Тем не менее, молекулярная классификация до сих пор редко используется в качестве основания для выбора терапии и не включена в официальные алгоритмы стратификации пациентов на группы риска большинства международных протоколов. В клинической практике ключевыми, по-прежнему, остаются клинико-морфологические критерии, тогда как молекулярный профиль применяется, главным образом, для оценки прогноза [14-15]. В связи с этим актуальным становится изучение прогностического значения молекулярной подгруппы в пределах так называемой группы стандартного риска, которую составляют пациенты с формально благоприятным прогнозом, получающие терапию по унифицированной схеме.
Клинико-морфологические характеристики молекулярных подгрупп в нашей когорте соответствовали ранее опубликованным данным [12-17], что подтверждает репрезентативность исследуемой популяции и надёжность проведённой молекулярной классификации.
Показатели выживаемости в нашей когорте также были сопоставимы с данными современных исследований у пациентов группы стандартного риска [3-4, 6-8]. Однако примерно четверть пациентов имела рецидив заболевания. Учитывая, что рецидив медуллобластомы в большинстве случаев фатален, с 3-летней выживаемостью менее 20 % [8, 11], даже относительно благоприятная группа остаётся клинически уязвимой и требует дальнейшей стратификации и оптимизации терапии.
Несмотря на относительно высокие показатели выживаемости в общей когорте, последующий анализ выявил прогностическую неоднородность в зависимости от молекулярной подгруппы, что подчёркивает ключевую роль биологических характеристик опухоли при оценке индивидуального риска. Пациенты с медуллобластомой подгруппы WNT продемонстрировали наилучшие показатели выживаемости. Однако частота рецидивов составила 14,6%, что превышает значения, обычно сообщаемые в литературе [12-21]. Большинство рецидивов носили метастатический характер с преимущественной локализацией в области боковых желудочков, что ранее было описано Nobre и соавт. [22].
В ряде современных клинических исследований (NCT02724579, NCT01878617) изучается возможность деэскалации дозы КСО у пациентов подгруппы WNT при отсутствии дополнительных факторов риска. В частности, проводится сравнение результатов лечения пациентов, получающих КСО в дозах 23,4 Гр и 18 Гр, а также модифицируются схемы системной терапии [6, 23]. Промежуточные результаты демонстрируют высокий уровень выживаемости при деэскалации терапии, однако период наблюдения остается невысоким, а окончательные данные пока не опубликованы. При этом попытка полного исключения лучевой терапии в исследовании ACNS0331 сопровождалась высокой частотой ранних рецидивов и привела к досрочному прекращению исследования [24].
В нашей когорте все случаи рецидива были зафиксированы среди пациентов, получивших КСО в дозе 23,4 Гр, при этом в группе, получившей 35,2 Гр, рецидивов не наблюдалось. Хотя различия не достигли статистической значимости, 5-летняя БСВ в группе 23,4 Гр составила 82%, что сопоставимо с общей когортой пациентов группы стандартного риска. Эти данные могут указывать на потенциальную прогностическую неоднородность внутри подгруппы WNT и подчёркивают необходимость выявления дополнительных факторов риска, как генетических (мутации в гене TP53, или делеции короткого плеча хромосомы 17, где данный ген локализован), так и морфологических (например, медулломиобластома) [25-28]. Деэскалация терапии в подобных условиях требует осторожности и должна основываться на комплексной оценке индивидуального прогноза.
Кроме того, дополнительным фактором, влияющим на риск рецидива, может являться схема поддерживающей химиотерапии. В ретроспективном многоцентровом исследовании Nobre и соавт. показано, что использование высоких доз алкилирующих агентов обеспечивало лучший контроль заболевания по сравнению с режимами с применением ломустина (p = 0,014) [22].
Подгруппа SHH была представлена сравнительно небольшим количеством пациентов, что соответствует известному распределению: большая часть пациентов с SHH-МБ включается в другие терапевтические группы – чаще всего это дети младше 5 лет, получающие химиотерапию без облучения, или пациенты старшего возраста с факторами риска, не позволяющими отнести их к группе стандартного риска [29]. Пациенты с SHH-МБ стандартного риска в нашем исследовании продемонстрировали наиболее высокую частоту рецидивов (39,1%) и относительно низкую 5-летнюю БСВ (72,1%). Эти данные подчёркивают выраженную прогностическую гетерогенность внутри подгруппы, особенно между маленькими детьми с десмопластической морфологией и детьми старшего возраста, имеющими неблагоприятные молекулярные маркеры.
Ключевым прогностическим фактором оказался статус гена TP53. У пациентов с наличием мутаций в гене TP53 пятилетняя БСВ составила лишь 33% против 92% при ТР53 дикого типа с учетом одинаковой интенсивности терапии. Несмотря на отсутствие статистически значимой разницы (p=0,11), это согласуется с результатами крупных когортных исследований, в которых наличие мутации в гене TP53 рассматривалась как независимый фактор крайне неблагоприятного прогноза [6, 29-31]. При этом повышение дозы КСО до 35,2 Гр не обеспечивало удовлетворительного контроля над заболеванием у данных пациентов, что ставит под сомнение универсальность стратегии интенсификации лучевой терапии и подчёркивает необходимость поиска альтернативных терапевтических подходов в данной подгруппе.
Пациенты подгруппы 3 имели наиболее неблагоприятный прогноз в исследуемой популяции: 5-летняя БСВ составила 65,2%, а частота рецидивов достигала 34,8%, большинство из которых были ранними и метастатическими. Все ранние рецидивы были зафиксированы у пациентов, получавших КСО в дозе 23,4 Гр; у трёх из них прогрессия заболевания наблюдалась на фоне специфической терапии. Напротив, оба поздних рецидива возникли у пациентов, получивших 35,2 Гр. Несмотря на отсутствие статистической значимости, такое распределение может отражать потенциальную недостаточность стандартной терапии у части пациентов группы 3 даже при отсутствии дополнительных клинико-морфологических факторов риска.
Наши наблюдения согласуются с литературными данными, указывающими на высокую биологическую агрессивность МБ третьей молекулярной подгруппы [12-13, 17]. Внутригрупповая гетерогенность подтверждается результатами нескольких исследований, в том числе транскриптомного анализа, на основании которого были выделены подтипы 3α/β, различающиеся по биологии и прогнозу [16-17, 32]. Это подчёркивает необходимость уточнённой стратификации и изучения возможной интенсификации терапии у данных пациентов.
Подгруппа 4 встречалась наиболее часто, и её доля была сопоставима с таковой в других группах риска. Пациенты этой группы продемонстрировали промежуточные результаты: 5-летние показатели выживаемости находились между благоприятными, характерными для подгруппы WNT и наименее благоприятными в подгруппе SHH и группе 3. Частота рецидивов составила 22% без выраженного преобладания ранних или поздних форм. Анализ не выявил статистически значимого влияния дозы КСО (23,4 Гр против 35,2 Гр) на показатели выживаемости, что может отражать ограниченное значение этого параметра у пациентов без дополнительных факторов риска.
Группа 4 является биологически гетерогенной. По данным литературы, она включает опухоли с различной агрессивностью и молекулярными характеристиками []. Ранее описаны потенциально значимые маркеры (амплификации генов CDK6, SNCAIP, наличие изохромосомы 17q и др.), ассоциированные с худшим прогнозом и потенциально применимые для выделения подгрупп повышенного риска [16, 33-35].
Таким образом, полученные результаты подчёркивают значимость молекулярной подгруппы как одного из ключевых прогностических факторов у пациентов стандартного риска. Тем не менее, даже в рамках этой классификации сохраняется существенная гетерогенность: от вариабельности внутригрупповой выживаемости среди МБ подгруппы SHH в зависимости от статуса гена TP53 до ранних рецидивов в группе 3 без дополнительных клинических факторов риска.
Расширенная молекулярная классификация медуллобластомы, включающая 4 субтипа SHH и 8 субтипов подгрупп 3/4 [3], позволяет более точно оценивать прогноз и может стать основой для персонализации терапии. Однако внедрение субтипирования, основанного на метилировании ДНК, в рутинную практику значительно ограничено экономическими и логистическими факторами. Альтернативой может служить поиск ключевых индивидуальных молекулярных маркеров, таких как мутации в гене TP53 в подгруппе SHH, определяемых с помощью более доступных методов.
Несмотря на чётко очерченные молекулярные закономерности, интерпретация результатов требует осторожности ввиду ряда ограничений, связанных с доступностью диагностики и особенностями включения пациентов в исследование. Несмотря на то, что в соответствии с современными протоколами пациентам группы стандартного риска рекомендовано проведение КСО в дозе 23,4 Гр, часть пациентов в нашей когорте получила КСО в объёме 35,2 Гр [5-7]. Это связано с ограниченными возможностями диагностики у части пациентов, в первую очередь, невозможностью верификации цитогенетических маркеров неблагоприятного прогноза, отсроченной послеоперационной визуализацией, а также с увеличением интервала до начала лучевой терапии, что, согласно литературным данным, может быть ассоциировано с менее благоприятным прогнозом [7, 20]. Вместе с тем повышение дозы радиотерапии сопряжено с увеличением риска отсроченной токсичности, и её применение без весомых оснований у пациентов с потенциально благоприятным течением заболевания требует особой осторожности [8-11].
В рамках настоящего исследования ни доза КСО, ни сроки начала лучевой терапии не оказали достоверного влияния на показатели выживаемости в общей когорте – ни в однофакторном, ни в многофакторном анализе. Это дополнительно подчёркивает приоритетное значение молекулярной подгруппы как определяющего прогностического маркера в сравнении с традиционными клинико-морфологическими критериями. Подобные данные согласуются с результатами других исследований, демонстрирующих ведущую роль биологических характеристик в прогнозировании течения заболевания и выборе лечебной тактики [14-15, 36].
Ещё одним важным фактором, потенциально повлиявшим на структуру когорты, является относительно низкая доля пациентов, отнесённых к стандартной группе риска: лишь 25% против 50-70% в международных регистрах [6-7]. Подобное расхождение может объясняться высокой частотой неполного стадирования (Rx/Mx) и ограничениями цитогенетической диагностики в рутинной практике. Такие пациенты не могли быть надёжно классифицированы и были исключены из анализа, что могло привести к снижению доли пациентов группы стандартного риска.
Кроме того, у ряда пациентов наблюдалось увеличение интервала между операцией и началом специфической терапии, что могло способствовать прогрессированию/рецидиву заболевания или появлению метастатического распространения и привести к их стратификации в группы более высокого риска [20]. Эти наблюдения подчёркивают необходимость строго соблюдения диагностического алгоритма и тайминга терапии, особенно в условиях, где доступность молекулярных исследований ограничена.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённый анализ показал, что молекулярная подгруппа является одним из ключевых прогностических факторов у пациентов с МБ группы стандартного риска, в настоящее время получающих терапию по единому протоколу лечения. Несмотря на благоприятный клинико-морфологический профиль, подгруппы различаются по частоте и характеру рецидивов и показателям выживаемости. Подгруппа WNT традиционно рассматривается как группа с наилучшим прогнозом, однако полученные нами данные свидетельствуют о возможной прогностической неоднородности и требуют осторожности при рассмотрении стратегии деэскалации терапии. Подгруппа SHH характеризуется высокой частотой рецидивов, преимущественно ассоциированных с наличием мутаций в гене TP53; при этом эскалация дозы лучевой терапии не продемонстрировала преимущества в настоящем исследовании. Высокая частота ранних метастатических рецидивов в группе 3, особенно у пациентов, получавших более низкие дозы КСО, может указывать на потенциальную недостаточность стандартной терапии и необходимость её интенсификации, что требует подтверждения в расширенных когортах. Полученные данные подтверждают целесообразность внедрения молекулярной стратификации в клиническую практику для принятия решений о выборе объёма терапии у пациентов с медуллобластомой стандартной группы риска.
Об авторах
А. Н. Флегонтов
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: drew_23@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8049-1908
аспирант, врач-детский онколог отделения нейроонкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Россия, 117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1А. Е. Друй
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: dr-drui@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1308-8622
Друй Александр Евгеньевич - канд. мед. наук, заведующий лабораторией молекулярной онкологии
Россия, 117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1
А. В. Процветкина
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: procvetkina.nastya@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8562-8945
биостатистик ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Россия, Саморы Машела 1, МоскваМ. А. Зайцева
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: margarita.zayceva@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0003-2015-5790
врач клинической лабораторной диагностики лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
РоссияН. В. Гегелия
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: Gegeliya.Nina@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0001-6208-6557
врач клинической лабораторной диагностики лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Россия, 117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1В. С. Петрова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: vera.petrova@dgoi.ru
медицинский технолог лаборатории молекулярной онкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1М. А. Сенченко
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: mariya.senchenko@fccho-moscow.ru
ORCID iD: 0000-0002-9921-5620
к.м.н, врач-патологоанатом ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, младший научный сотрудник отдела клинической патологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Россия, 117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1А. В. Тараканова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: sequaciou@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-9496-3136
SPIN-код: 8511-1118
врач-патологоанатом отделения патологической анатомии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
Россия, 117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1А. В. Санакоева
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: agunda.sanakoeva@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0001-5893-0508
к.м.н., врач-нейрохирург ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
РоссияА. В. Артемов
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: Anton.Artemov@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0002-0628-1726
к.м.н., врач-рентгенолог ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
РоссияВ. В. Горностаев
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: vladimir.gornostaev@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0003-1261-2963
Москва
РоссияЕ. А. Сальникова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: ekaterina.salnikova@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0002-9846-2793
Москва
РоссияА. Е. Сысоев
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: andrey.sysoev2011@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0005-1920-9343
Сысоев Андрей Евгеньевич, заместитель заведующего отделением – врач-детский онколог отделения нейроонкологии
117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1
РоссияА. А. Меришавян
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: artur.merishavyan@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0002-5310-5928
Москва
РоссияМ. М. Колдашева
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: marina.koldasheva@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0002-2189-8126
В. А. Дегтярев
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: degtyarev.vitaly@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9722-4590
Дегтярев Виталий Александрович, врач-детский онколог отделения нейроонкологии
117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1
РоссияИ. Н. Касич
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: igrkas@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0899-5957
Касич Игорь Николаевич - врач-детский онколог отделения нейроонкологии.
117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1
РоссияД. А. Емельянова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: diana.emelyanova@dgoi.ru
ORCID iD: 0009-0006-3513-8060
врач-детский онколог консультативного отделения
Россия, 117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1И. Г. Вилесова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: irina.vilesova@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0001-6296-4305
Москва
РоссияУ. С. Кихтенко
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Email: ukikhtenko@bk.ru
студент
Россия, Россия, 117513, г. Москва, ул. Островитянова, 1с6Г. А. Новичкова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: Galina.Novichkova@dgoi.ru
ORCID iD: 0000-0002-2322-5734
Галина Анатольевна Новичкова
Москва
РоссияН. С. Грачев
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Email: nick-grachev@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4451-3233
д.м.н., профессор, генеральный директор ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
РоссияА. И. Карачунский
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России; ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Email: aikarat@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9300-198X
Карачунский Александр Исаакович, д.м.н., профессор, директор Института онкологии, радиологии и ядерной медицины.
117997, Москва, ул. Саморы Машела, 1
РоссияЛ. И. Папуша
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России
Автор, ответственный за переписку.
Email: ludmila.mur@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7750-5216
к.м.н., заведующая отделением нейроонкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, заведующая отделом оптимизации терапии опухолей центральной нервной системы ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева
РоссияСписок литературы
- Quinn T. Ostrom, Haley Gittleman, jordonna Fulop, Max Lui, Rachel Blanda, Courtney Kromer, Yingli Wolinsky, Carol Kruchko, Jill S Barnholtz-Sloan. CBTRUS Statistical Report: Primary Brain and Central Nervous System Tumors Diagnosed in the United States in 2008-2012. Neuro Oncol (2015) 17 (Suppl 4): iv1-iv626. doi: 10.1093/neuonc/nov189.
- Nader Salari, Hooman Ghasemi, Reza Fatahian, Kamran Mansouri, Sadat Dokaneheifard, Mohammad Hossain Shiri, Mahvan Hemmati, Masoud Mohammadi. The global prevalence of primary central nervous system tumors: a systematic review and meta-analysis. Eur J Med Res, 2023 Jan 20;28(1):39. doi: 10.1186/s40001-023-01011-y.
- Volker Hovestadt, Olivier Ayrault, Fredrik J. Swartling, Giles W. Robinson, Stefan M. Pfister, and Paul A. Northcott. Medulloblastomics revisited: biological and clinical insights from thousands of patients. Nat Rev Cancer. 2020 Jan; 20(1): 42–56. doi: 10.1038/s41568-019-0223-8.
- Lazow M.A., Palmer J.D., Fouladi M., Kilburn L.B., Bartels U., Grill J., Faria C.C., Huang A., Taylor M.D., Manley P.E., et al. Medulloblastoma in the Modern Era: Review of Contemporary Trials, Molecular Advances, and Updates in Management // Neurotherapeutics. – 2022. – Vol. 19. – P. 1733–1751. – doi: 10.1007/s13311-022-01273-0.
- Martin Mynarek, Denise Obrecht, Beate Timmermann, Rudolf Schwarz, Rolf Kortmann, Stefan Rutkowski. HIT-MED Guidance for Patients with newly diagnosed Medulloblastoma, Ependymoma and Pineoblastoma. https://prinsesmaxima.iprova.nl/Portal/#/QC/WGW-66-G (December 2020).
- Mynarek, Martin et al. “SIOP PNET5 MB Trial: History and Concept of a Molecularly Stratified Clinical Trial of Risk-Adapted Therapies for Standard-Risk Medulloblastoma.” Cancers vol. 13,23 6077. 2 Dec. 2021, doi: 10.3390/cancers13236077
- Gajjar, Amar et al. “Outcomes by Clinical and Molecular Features in Children With Medulloblastoma Treated With Risk-Adapted Therapy: Results of an International Phase III Trial (SJMB03).” Journal of clinical oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology vol. 39,7 (2021): 822-835. doi: 10.1200/JCO.20.01372
- Michalski JM, Janss AJ, Vezina LG, et al. Children's Oncology Group Phase III Trial of Reduced-Dose and Reduced-Volume Radiotherapy With Chemotherapy for Newly Diagnosed Average-Risk Medulloblastoma. J Clin Oncol. 2021 Aug 20;39(24):2685-2697
- Spiegler B.J., Bouffet E., Greenberg M.L., Rutka J.T., Mabbott D.J. Change in neurocognitive functioning after treatment with cranial radiation in childhood // J. Clin. Oncol. – 2004. – Vol. 22, №4. – P. 706–713. – doi: 10.1200/JCO.2004.05.186.
- Armstrong G.T., Liu Q., Yasui Y., Huang S., Ness K.K., Leisenring W., Hudson M.M., Donaldson S.S., King A.A., Stovall M., et al. Long-term outcomes among adult survivors of childhood central nervous system malignancies in the Childhood Cancer Survivor Study // J. Natl. Cancer Inst. – 2009. – Vol. 101, №13. – P. 946–958. – doi: 10.1093/jnci/djp148.
- Sabel M., Fleischhack G., Tippelt S., Gustafsson G., Perilongo G., Taylor R.E., Castel V., Rutkowski S., Giordano F.A., Pietsch T., et al. Relapse patterns and outcome after relapse in standard risk medulloblastoma: a report from the HIT-SIOP-PNET4 study // J. Neurooncol. – 2016. – Vol. 129, №3. – P. 515–524. – doi: 10.1007/s11060-016-2202-1.
- Taylor M.D., Northcott P.A., Korshunov A., Remke M., Cho Y.-J., Clifford S.C., Eberhart C.G., Parsons D.W., Rutkowski S., Gajjar A., Ellison D.W., Lichter P., Gilbertson R.J., Pomeroy S.L., Kool M., Pfister S.M. Molecular subgroups of medulloblastoma: the current consensus // Acta Neuropathol. – 2012. – Vol. 123, №4. – P. 465–472. – doi: 10.1007/s00401-011-0922-z.
- Kool M., Korshunov A., Remke M., Jones D.T.W., Schlanstein M., Northcott P.A., Cho Y.-J., Koster J., Schouten-van Meeteren A., van Vuurden D., et al. Molecular subgroups of medulloblastoma: an international meta-analysis of transcriptome, genetic aberrations, and clinical data of WNT, SHH, Group 3, and Group 4 medulloblastomas // Acta Neuropathol. – 2012. – Vol. 123, №4. – P. 473–484. – doi: 10.1007/s00401-012-0958-8.
- Ramaswamy V., Remke M., Bouffet E., Bailey S., Clifford S.C., Doz F., Kool M., Jones D.T.W., Witt H., Gil-da-Costa M.J., et al. Risk stratification of childhood medulloblastoma in the molecular era: the current consensus // Acta Neuropathol. – 2016. – Vol. 131, №6. – P. 821–831. – doi: 10.1007/s00401-016-1569-6.
- Hee Won Cho, Hyunwoo Lee, Hee Young Ju, Keon Hee Yoo, Hong Hoe Koo, Do Hoon Lim, Ki Woong Sung, Hyung Jin Shin, Yeon-Lim Suh, and Ji Won Lee. Risk Stratification of Childhood Medulloblastoma Using Integrated Diagnosis: Discrepancies with Clinical Risk Stratification. J Korean Med Sci. 2022 Feb 21; 37(7): e59. doi: 10.3346/jkms.2022.37.e59.
- Cavalli F.M.G., Remke M., Rampasek L., Peacock J., Shih D.J.H., Luu B., Garzia L., Torchia J., Nor C., Morrissy A.S., et al. Intertumoral heterogeneity within medulloblastoma subgroups // Cancer Cell. – 2017. – Vol. 31, №6. – P. 737–754.e6. – doi: 10.1016/j.ccell.2017.05.005.
- Northcott P.A., Lee C., Zichner T., Stütz A.M., Erkek S., Kawauchi D., Shih D.J.H., Hovestadt V., Zapatka M., Sturm D., Jones D.T.W., Kool M., Remke M., Cavalli F.M.G., Ramaswamy V., et al. The whole-genome landscape of medulloblastoma subtypes // Nature. – 2017. – Vol. 547, №7663. – P. 311–317. – doi: 10.1038/nature22973.
- Choi J.Y. Medulloblastoma: Current Perspectives and Recent Advances // Brain Tumor Res. Treat. – 2023. – Vol. 11, №1. – P. 28–38. – doi: 10.14791/btrt.2022.0046.
- Northcott P.A., Shih D.J.H., Remke M. et al. Rapid, reliable, and reproducible molecular sub-grouping of clinical medulloblastoma samples // Acta Neuropathol. 2012. Vol. 123, No. 4. P. 615–626. doi: 10.1007/s00401-011-0899-7.
- Chin, Alexander L et al. “Survival impact of postoperative radiotherapy timing in pediatric and adolescent medulloblastoma.” Neuro-oncology vol. 20,8 (2018): 1133-1141. doi: 10.1093/neuonc/noy001
- Clifford SC, Lusher ME, Lindsey JC, Langdon JA, Gilbertson RJ, Straughton D, et al.: Wnt/Wingless pathway activation and chromosome 6 loss characterize a distinct molecular sub-group of medulloblastomas associated with a favorable prognosis. Cell Cycle 5:2666–2670, 2006
- Nobre L., Zapotocky M., Ramaswamy V., Ryall S., Bennett J., Alderete D., Krieger M.D., Fukuoka K., Stewart E., Hawkins C., et al. Pattern of Relapse and Treatment Response in WNT-Activated Medulloblastoma // Cell Rep. Med. – 2020. – Vol. 1, №3. – Article 100038. – doi: 10.1016/j.xcrm.2020.100038.
- Sharma T., Schwalbe E.C., Williamson D., Sill M., Hovestadt V., Mynarek M., Rutkowski S., Robinson G.W., Gajjar A., von Hoff K., et al. Second-generation molecular subgrouping of medulloblastoma: an international meta-analysis of Group 3 and Group 4 subtypes // Acta Neuropathol. – 2019. – Vol. 138, №2. – P. 309–326. – doi: 10.1007/s00401-019-02020-0.
- Cohen K., Chi S., Hawkins C., Rodriguez F., London W., Castellino R.C., Aguilera D., Stapleton S., Ashley D., Landi D., et al. Mbcl-25. Pilot Study of a Surgery and Chemotherapyonly Approach in the Upfront Therapy of Children with Wnt-Positive Standard Risk Medulloblastoma: Updated Outcomes. Neuro-Oncology. 2020;22:iii393–iii394. doi: 10.1093/neuonc/noaa222.501.
- Mani, Shakthivel et al. “WNT-pathway medulloblastoma: what constitutes low-risk and how low can one go?.” Oncotarget vol. 14 105-110. 7 Feb. 2023, doi: 10.18632/oncotarget.28360
- Sarkar, Piyabi; Halder, Aniket; Arun, Indu; Chatterjee, Uttara; Chatterjee, Sandip. Medullomyoblastoma: A report of two cases. Neurology India 65(3):p 647-650, May–Jun 2017. | doi: 10.4103/neuroindia.NI_181_16
- Jones D.T.W., Hutter B., Jäger N., Korshunov A., Kool M., Warnatz H.-J., Zichner T., Lambert S.R., Ryzhova M., Quang D.A.K., et al. The impact of TP53 status on WNT-medulloblastoma // Cancer Cell. – 2019. – Vol. 35, №6. – P. 881–885.e5. – doi: 10.1016/j.ccell.2019.05.005
- Zhukova N., Ramaswamy V., Remke M., Pfaff E., Shih D.J.H., Martin D.C., Castelo Branco P., Baskin B., Ray P.N., Bouffet E., von Bueren A.O., Jones D.T.W., Northcott P.A., Kool M., Sturm D., Pugh T.J., Pomeroy S.L., Cho Y.J., Pietsch T., Gessi M., Rutkowski S., … Tabori U. Subgroup Specific Prognostic Implications of TP53 Mutation in Medulloblastoma // J. Clin. Oncol. – 2013. – Vol. 31, №23. – P. 2927–2935. – doi: 10.1200/JCO.2012.48.5052.
- Rutkowski, Stefan, et al. "Treatment of early childhood medulloblastoma by postoperative chemotherapy alone." The New England Journal of Medicine, vol. 352, no. 10, 2005, pp. 978–986. doi: 10.1056/NEJMoa042176
- von Bueren, Andreas O., et al. "Treatment of children and adolescents with medulloblastoma of the SHH subgroup: results of the prospective multicenter trial HIT-SKK87/92/2000." Neuro-Oncology, vol. 23, no. 9, 2021, pp. 1534–1547. doi: 10.1093/neuonc/noab061
- Eibl R.H., Schneemann M. Medulloblastoma: From TP53 Mutations to Molecular Classification and Liquid Biopsy // Biology. – 2023. – Vol. 12, №2. – Article 267. – doi: 10.3390/biology12020267.
- Schwalbe EC, Lindsey JC, Nakjang S, Crosier S, Smith AJ, Hicks D, Rafiee G, Hill RM, Iliasova A, Stone T, et al. Novel molecular subgroups for clinical classification and outcome prediction in childhood medulloblastoma: a cohort study. Lancet Oncol. 2017;18:958–971. doi: 10.1016/S1470-2045(17)30243-7.
- Menyhárt, Otília et al. “Molecular markers and potential therapeutic targets in non-WNT/non-SHH (group 3 and group 4) medulloblastomas.” Journal of hematology & oncology vol. 12,1 29. 15 Mar. 2019, doi: 10.1186/s13045-019-0712-y
- Sursal, Tolga et al. “Molecular Stratification of Medulloblastoma: Clinical Outcomes and Therapeutic Interventions.” Anticancer research vol. 42,5 (2022): 2225-2239. doi: 10.21873/anticanres.15703
- Okonechnikov, Konstantin et al. “Oncogene aberrations drive medulloblastoma progression, not initiation.” Nature vol. 642,8069 (2025): 1062-1072. doi: 10.1038/s41586-025-08973-5
- David N Louis, Arie Perry, Pieter Wesseling, et al. The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Neuro Oncol. 2021 Aug; 23(8): 1231–1251. doi: 10.1093/neuonc/noab106.
Дополнительные файлы